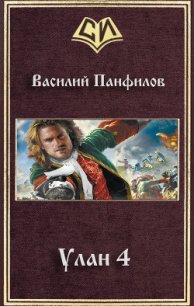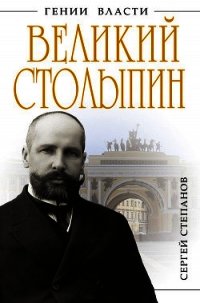Детство 2 (СИ) - Панфилов Василий "Маленький Диванный Тигр" (читать книги без сокращений .TXT) 📗
— Только через никому, ладно? — Ещё раз попросил я, — Даже самым-самым! Вопрос с документами сейчас решается, но до того момента меня могут загнать в приют, а ето, я вам авторитетно скажу — жопа! Даже ЖОПА!
Фёдор на ругательство даже и не поморщился, слушает с самым серьёзным и чуточку просветлённым видом.
— Могут мастеру вернуть — по закону, — Продолжил я, — или тётушке, будь она неладна, если контракт опротестуют. А от неё всякое можно, но вряд ли хорошее ждать.
— Егор, — Как-то очень решительно начал Фёдор, на глазах светлея ликом, вплоть до полной иконности и нимба над перхотными волосами, — прогрессивная общественность могла бы…
— Вот не надо, ладно? — В голосе у меня прорезалась тоска, — Без общественности!
Документами занимается серьёзный человек, тоже вполне себе… представитель и даже немножечко прогрессивный. А служить кому-то там каким-нибудь примером, дабы либеральная публика поужасалась за обедом после читанной газеты — спасибочки, но нет! Я жить хочу. Просто жить, без примеров и борьбы, а тем более трагической на самом себе. Если когда-нибудь и да, то сильно потом, и только потому, што так решу я сам, а не за меня общественность. Хорошо?
А внутри как накатило! Тоска. Вот, думаю, разоткровенничался. Теперь как минимум учителя нового искать, а то и вовсе. Из Одессы по кустам. Потому как прогрессивный и либеральный, а они через одного готовы по телам, но штоб по нужным им идеалам всё.
— Никому! — Неожиданно твёрдо сказал Фёдор, — Слово!
Глянул… и опустился назад. Не врёт. Сразу у чая вкус нашёлся, да какой! Мёд и мёд, а местами так даже и амброзия. А сушки дрянь, старые. Небогато живут.
Долго потом сидели, чуть не целый час. Стёпка всё любопытствовал подробностями за Молдаванку. Ему и раньше интересно было, но тогда я Шломо был, а теперь совсем наоборот.
Незазорно.
Они ведь не одесситы ни разу, из Харькова. Второй год всево как переехали, ничево ещё не знают. Мне такое дико сперва, а потом и понял.
Фёдор, он же в университете, в Москве. Ни дружков здесь гимназических нет, ни знакомых каких.
Так тока, знакомцы неблизкие. Приехал на лето, а ткнуться особо и некуда.
Стёпка как и да, но гимназист. Ходить в мундире положено, туда-сюда нельзя, не особо и сунешься по городу. Друзья вроде как и завелись в гимназии, а на лето — раз! Да и уехали. И не с кем. Во дворе если с кем, так или ровесников нет или тоже — разъехались. От холеры и жары подальше.
Вышел от них набульканный чаем до самого горлышка. Гитара сзади в чехле, и весь такой себе романтичный и красивый, што прямо-таки менестрель и трубадур, сам себе нравлюсь.
До Ришельевской дошёл, там Санька третий день портретирует. Стесняется так, што ето видеть надо! Но работает. Потому што надо.
Учитель велел. Што-то там про набивку руки и… нет, не помню. В общем, чутка ремесленничества Чижу на пользу. Недорого — так, штоб вовсе уж не бестолку рисовать, а руку на портретах набить, и хоть чутка на бумагу и карандаши окупить притом.
Язык высунул смешно — чутка, самый кончик, да барышню молоденькую с папенькой рисует. Те улыбаются друг дружке, прохожим, хорошему дню и Санькиному языку да важному виду.
Некрасивые. Ни папенька упитанный, ни дочка ево с носиком уточкой. Но вот ей-ей — видно, што хорошие люди, вот прям чувствуется. Барышня от тово красивей не становится, но милая такая, тёплая вся. Солнышко такое.
Отсюдова вижу, што хорошо у Саньки получается. Не такое себе, што фамильное и по наследству, а такое, што с летнего отдыха привести для приятных воспоминаний.
Ну я лезть и не стал — так тока, рукой махнул, да и уселся неподалёку, на ступенечках. Гитара будто сама собой в руки, да вот и наигрывать начал всякое простенькое. Што умею.
Глаза прикрыл, да играю себе в удовольствие. Слышу — зазвенело, а потом ещё.
— Кхм! — Городовой стоит, в кулак кашляет, и на монеты у моих ног выразительно глядит.
— Вот те на!? Ей-ей, дяденька, для души и настроения играю! Кепка-то на голове!
Смотрит…
Сбегал для Саньки, взял лист, да и намалевал:
«Денег музыканту не кидать, играю для души и от хорошего настроения. Купите лучше себе мороженого».
— Кхм…
Постоял тот, постоял, в усы поулыбался, да и не стал гнать. Хотя мог бы, да.
А я чуть погодя и вовсе распелся. Голос-то у меня хороший, в любую церкву певчим с разбега войду, а то и в собор. Негромко так, романистое всякое, што под гитару да летнее настроение хорошо идёт.
Долго так — то пел, то просто играл, с перерывом три раза на мороженое и один раз на ситро.
Устал уже петь, а домой не хочется. Точнее, на Молдаванку.
Как Фиру с тётей Песей увезли, так я измаялся весь. Не тоской и всем таким, а иначе.
Я на Молдаванку через тётю Песю попал, а там и Фира сразу. И как-то хорошо очень приняли, да и у меня принялось. Врос почти што. Не так штобы дом, но хорошо. А теперь нет, и опустело будто.
Сейчас вот понялось, што на многое через Фиру смотрел. Он ж вся такая искренняя и радостная, што и грязи тамошней незаметно было.
Ёсик, Товия, Самуил — они же больше охрана, чем друзья-приятели. Такая себе дружба через взаимную выгоду. Не самые плохие ребятя, а может и вовсе хорошие, но вот так.
И всё через так воспринимаю сейчас. Может даже и обратно пошло, с избытком через подозрительность и тоску. Скучаю потому што. Придёшь, а вроде не к кому. В карты есть с кем поиграть, в бабки. А не то. Пусто.
Вроде как лето и осталось, но каникулы закончились, нет летнево настроения. Август и тёплышко ещё, обкупаться успею не раз, ягод фруктовых поесть, наприключаться интересно и по-всякому, а не то.
Одесса осталась солнечной и летней, а на Молдаванке будто октябрь.
Двадцать четвёртая глава
Глаза у Фиры красные, сама сопит што тот ёжик, да хвостиком за мной ходит. Встану только, так сразу в руку вцепляется, и ну сопеть! Тяжко так на душе становится, но и отцепляться ещё тяжче, будто впополам всё рвётся.
У тёти Песи тоже глаза на сильно мокром месте, но она и не стесняется, промакивает платочком, а просмаркивается передником. Мелкие пока мало што понимают, да и не был я с ними близко, но за компанию вроде как и куксятся. Ходят надутые такие, но не ревут, сдерживаются.
Они за прошедший месяц, пока мать и старшая сестра в больнице лежали, здорово по ним скучали. И вот теперь соскученные и долгожданные мать с сестрой сильно огорчены. Вот и ходят мелкие, кривят мордахи.
Ну и по мне, наверное, немножечко скучать будут. Не стока по самому мне, а больше по каруселям и мороженому, да прогулкам в парке большой гомонящей компанией. Толком ещё не понимают, но чувствуют.
— Может, таки останешься? — Просморкавшись звучно, нерешительно подала сырой голос тётя Песя, — А? Документы выправим через Фиму, пусть он даже и сто раз на Туретчине!
Связи-то ого! Остались.
— Да! — Фира до боли вцепилась в руку, — Как Шломо! Как Егор, как кто угодно! А?!
Прижимаю на мгновение к себе, и оно растягивается на несколько минут. Проревевшись и насквозь намочив слезами рубаху, Фира нехотя отрывается. Глаза краснющие, веки припухшие.
— Я некрасивая, да?
— Красивая, — Достаю платок и вытираю слёзы, — просто зарёванная.
— Тогда почему?!
— Потому што я Егор Кузьмич Панкратов из Сенцово, а не таки Шломо из Бердичево. Хочу по улицам ходить спокойно, к родне в деревню не тайком съездить, а как Егор. Потому што в Москве у меня друзья, дела, заработок.
— Заработок, — Вздыхает тётя Песя опечалено, — как будто здесь нет?! Ой-вэй! Кто б мне полгода назад сказал, што чужого гоя буду провожать с большим плачем, чем родного племянника, которого у меня таки нет? Я бы сильно плюнула в его сторону, но не слишком сблизи, штоб без ответа, а теперь вот так вот! Сижу, страдаю за чужого мальчика, который стал таки самую множечко своим!
— В следующем годе постараюсь приехать снова, — Говорю от самой што ни на есть души, из глубин. По сердцу мне Одесса и новые близкие люди, которые стали почти што родственниками.