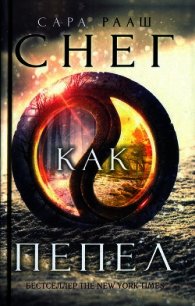Забирая жизни. Трилогия (СИ) - Бец Вячеслав (бесплатные онлайн книги читаем полные TXT) 📗
Она не смогла даже застрелиться. Хотя… тут всё зависит от того, с какой стороны на это посмотреть – на спуск‑то она ведь нажала. Да, пистолет оказался не снят с предохранителя и не выстрелил, но она смогла сделать это, смогла приложить нужное усилие – просто ей не повезло. Правда, когда она поняла, что скорее сломает палец, чем добьётся выстрела, и сняла предохранитель, её силы оказались исчерпаны. Во второй попытке совершить задуманное она уже не смогла. Не хватило духа.
Она никогда ещё не доходила до подобного состояния и вообще никогда не представляла, что дойдёт. Она не задумывалась, что для того, чтобы убить себя, мало одного желания – нужны огромная воля и характер, чтобы осознанно, обдуманно совершить самоубийство. Слабый же человек может сделать это в порыве эмоций, подталкиваемый депрессией и нежеланием искать из неё выход. В тот момент Аня была чем‑то средним.
Теперь она могла только страдать.
Малодушная… Убить Таню ты сумела, а ведь она прошла через ад, прежде чем ты даровала ей вечную свободу и забвение. Что же ты, ничтожество, испугалась повторить её участь? Решила избрать самый лёгкий путь? А почему бы тебе сначала не убить ЕГО?
Именно после этой мысли отупение и возобладало. Её сковал ужас, ведь она боялась даже думать о том, чтобы сознательно искать встречи с Третьяковым. От одной только мысли об этом тело становилось ватным, а ноги подкашивались. Нет, она не сможет убить его. Он видит её насквозь и поймёт всё раньше, чем она успеет что‑то сделать, а как только её попытка провалится – она окажется в его руках. Нет. НЕТ! Что угодно, но только не снова в эти мерзкие руки насильника и душегуба. Ни за что. Лучше смерть.
Но сил отнять собственную жизнь у неё уже тоже не было. Отчаяние, которое подпитывало её решимость жать на спуск, ушло, сменилось этим странным чувством, состоящим из смеси безвольности, слабости и фатализма.
Пошёл уже третий день, как она не выходила из своей комнаты, ничего не ела и даже не мылась, заставляя себя только добрести до туалета. Тело начало неприятно пахнуть, волосы слиплись от жира, красивое лицо осунулось и посерело, а глаза покраснели от бессонницы – вот, что она сейчас из себя представляла.
Вечером третьего дня пришёл отец. Он стучал в дверь и звал её, но она не открыла ему так же, как и служанке, приносившей еду. Отец что‑то кричал через дверь, кажется, даже нервничал, но это скорее из‑за того, что ему не подчиняются, чем из‑за того, что волновался за неё. Теперь она понимала это.
Прошло совсем немного времени после визита отца, и дверь, чуть не слетев с петель, с грохотом распахнулась от удара ручным тараном. Аня вздрогнула от неожиданного громкого звука и, повернув испуганное лицо, увидела, как в комнату входит отец – все остальные остались в коридоре, и кто‑то даже аккуратно прикрыл за ним выбитую дверь.
Владов, на ходу бегло осматривая комнату, в которой оказался впервые, подошёл к кровати дочери. Поверхностного взгляда на Аню ему хватило, чтобы всё понять.
– Я думал у тебя больше воли, – холодно сказал он. – Не ожидал, что это поражение сломает тебя. Что‑то ты зачастила.
Аня проигнорировала его слова.
– Неужели так трудно смириться с проигрышем? – в его тоне появились менторские нотки. – Это ведь совершенно обыденная вещь. Жизнь – она сама по себе простая череда побед и поражений.
Дочь смотрела на него невидящим взглядом. Его красавица, выглядящая сейчас не сильно лучше покойницы. Сам он смотрел на неё с жалостью и презрением и больше всего хотел бы уйти, потому что ничего в своей жизни Владов не презирал больше, чем слабаков. Но как‑никак, перед ним была его дочь. Стоит сделать для неё небольшую поблажку. Особенно если учесть, что он пришёл сюда вовсе не интересоваться её состоянием, хоть это тоже имело значение – он пришёл, потому что для неё нашлась работа.
– Иногда вообще бывает, что поражения идут одно за другим и кажется, что просвета нет, – продолжил Владов. – В такие моменты настоящее значение имеет только решимость продолжать. Продолжать делать то, что считаешь правильным, или бороться, или жить. Именно наличие и сила этой решимости показывает, что ты за человек.
Он сделал паузу, наблюдая за реакцией дочери. Бог его знает, что он увидел, но вскоре он продолжил.
– Ты ненавидишь Третьякова и у тебя есть за что. Теперь, когда ты не смогла проглотить его, не смогла отомстить – ты страдаешь, и я понимаю тебя. Ты ожидала, что я стану слепым правосудием в твоих руках, но я не пошёл на поводу у твоих ненависти и коварства, и поэтому ты злишься – здесь я тебя тоже понимаю. Очень хорошо понимаю, ведь я твой отец.
Аня по‑прежнему не реагировала. Постороннему могло бы показаться, что она вообще его не слышит, но Владов знал, что это не так. Чуть слышно фыркнув, он перешёл к конкретике.
– Но, несмотря на то, что ты пыталась меня использовать, я всё равно хочу помочь тебе. У меня есть предложение, которое должно тебе понравиться, – он сделал короткую паузу, внимательно глядя на дочь. – Хочешь уехать подальше от него? Туда, где он не будет мозолить тебе глаза и напоминать о поражении?
Кое‑что в её покрасневших глазах изменилось, и Владов убедился, что смысл его слов, похоже, всё‑таки достигает её. Прикорм сработал – пора забрасывать удочку.
Незадолго до встречи Ани с отцом состоялся короткий разговор, в котором Генрих Штерн предпринял последнюю попытку изменить дальнейший ход событий, хоть и не верил в то, что сможет добиться успеха. Произошло это, когда они летели на одну короткую, но очень важную встречу.
– Игорь Алексеевич, я не понимаю, – в голосе Штерна хорошо чувствовалось с трудом сдерживаемое негодование.
– Не понимаешь? Чего именно, Генрих? – Владов отвлёкся от просмотра отчёта контрразведки, который перечитывал уже несколько раз.
Штерн был заранее ознакомлен с планом Владова на Аню и очень не хотел, чтобы этот план воплотился в жизнь. Он потратил немало времени и сил, чтобы придумать, как переубедить шефа, но ничего путного в его светлую голову так и не пришло.
– Зачем вы так с ней? Она же ваша…
– Как, Генрих? – Владов перебил его и посмотрел вопросительно, но строго.
Любой другой человек давно бы отступился, но Штерн был ближайшим соратником Владова и поэтому мог позволить себе кое‑что, чего не мог почти никто другой.
– Подвергаете её такому риску!
– Риску? – Владов будто удивился. – Ты о чём?
– О чём? Там целый взвод отморозков. И он сам, по‑моему, ничем не лучше. Вы думаете он их контролирует?
Владов, не двигая головой, снова перевёл взгляд на отчёт, лежащий перед ним на столе, даже приподнял его, но затем вновь отложил и посмотрел на Штерна.
– Слушай, прекращай истерику и объясни нормально свою позицию.
Генрих выдержал короткую паузу, собираясь с мыслями: долго молчать было нельзя – Владов ценил своё время и просто не стал бы ждать. Особенно если учитывать, что их ожидало по прилёту. Дело было настолько серьёзным, что даже Штерну сейчас стоило бы думать именно о нём, а не о какой‑то там женщине, пусть даже дорогой его сердцу.
– Вы отправляете Аню с толпой отморозков неизвестно куда. Её там могут изнасиловать, убить и даже в рабство продать, заявив потом, что она погибла или «потерялась». Я не понимаю, почему вы так жестоки с собственной дочерью.
Владов втянул губы и прищурился. Это был недобрый знак, и Штерн, который собирался ещё что‑то сказать, увидев это, немедленно заткнулся, с опаской ожидая ответа шефа. Владов помолчал секунд десять, а затем его лицо приняло обычное выражение – буря миновала.
– А чего ты так за неё печёшься, будто это ты её отец, м?
Генрих смутился и опустил взгляд. Он не хотел отвечать на этот вопрос, но Владову и не нужен был его ответ, потому что он и так всё знал. Поначалу он хотел сказать об этом Штерну, но потом передумал.
Владов давно уже не был подвержен неконтролируемым эмоциям, давно научился при необходимости подавлять внутри себя всё, кроме сухой логики и расчётов, показывая эмоции только тогда, когда это было необходимо для правильного воздействия на окружающих. Но после того, что сделала эта дурочка, которая биологически является его дочерью, кое‑какие чувства в нём всё же проснулись и постоянно грызли. Это были не жалость к дочери, не любовь к близкому человеку или сострадание – это было нечто другое: он ощущал, будто болезненно перерезает пуповину, которая соединяет его хоть с кем‑то из людей, живущих на этой планете.