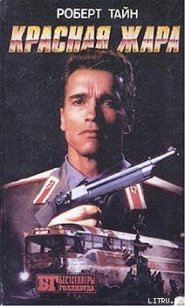Болезнь Китахары - Рансмайр Кристоф (читать книги TXT) 📗
— Это... не... Паттон. — Ее рука, мгновение покоившаяся на его плече, соскользнула, и он не посмел ее задержать.
Это был не Паттон. Это была прелюдия — выступление группы, о которой никто никогда не слыхал, ни в вечерних телешоу по средам, ни в хит-парадах коротковолновых радиостанций. Но хотя сольные фразы у них нередко получались рыхлыми, а то и вовсе распадались на диссонансы, публика все же мало-помалу начала притопывать в такт, факелами и горящими сучьями выписывая в ночи огненные знаки. А когда прелюдия завершилась неистовым воплем инструментов и голосов и безымянные исчезли так же внезапно, как и появились, свет прожекторов померк до тлеюще-фиолетового. И сумрак, в котором лишь кое-где взблескивал микрофон или хромированный металл, кричал , требуя Паттона.
Но вот вспыхнул один из прожекторов; конус света упал из ночи на сцену и, скользнув мимо Беринга, выхватил из темноты человека с синим от татуировок лицом. Он бежал. Бежал, когда прожектор осветил его, и продолжал бежать в конусе света по сумеречной сцене, таща за собою шнур микрофона и на бегу выкрикивая имя, которое, усиленное до пределов возможного, прокатилось над толпой и над всем летным полем: General Patton and his Orchestra!
Беринг видит, как бегун хватается за какие-то воображаемые рычаги. Он отводит, отжимает их вниз и отскакивает назад, в глубину сцены, откуда теперь со всех сторон, средь молний магниевых вспышек, выбегают паттоновские музыканты. Семеро мужчин и четыре женщины. Публика знает их всех по именам.
Они прижимают к себе инструменты и микрофоны, точь-в-точь как все это видели по средам на экране, и, хотя никто вроде бы не подавал им знака к вступлению, начинают играть одну из самых знаменитых песен Паттона, да в таком бешеном темпе, что зрители у их ног не в состоянии ни подпевать в такт, ни даже просто притопывать.
Потом музыка опять умолкает — так же резко, как началась. Лишь хор безнадежно отставших от нее фэнов невнятно гудит еще секунду-другую, после чего снова вспыхивает прежнее бестолковое ликование, среди которого на сцену последним из участников выходит Генерал Паттон .
Паттон не бежит. Он шагает. Идет прямо на Беринга, а тот бледнеет и, затаив дыхание, невольно норовит забиться поглубже в тень акустических колонок. Но там уже стоит Лили. Амбраса нигде не видно.
Какой он маленький, этот Паттон.
Маленький?
Паттон проходит мимо, так близко от Беринга, что тот мог бы дотронуться до него вытянутой рукой. Паттон скользит по нему взглядом, смотрит сквозь него и идет дальше, навстречу ликованию. Тень на фоне сияния прожектора — таким видит его Беринг; Паттон шагает навстречу толпе, которая тянет к нему целый лес рук, а тот, кто, как Беринг, стоит меж проводов и черной аппаратуры, вполне может решить, что все эти руки тянутся к нему, или к Лили.
Они требуют нас , едва не кричит он, они требуют нас!
Но Лили не сводит глаз с тени Паттона. Далеко впереди, среди ликования, занял он свое место. И там, на самом краю сцены, поднимает руку, будто желая утихомирить восторженный рев, однако потом всего лишь козырьком подносит ее ко лбу, обводит взглядом море энтузиастов внизу и наконец до ужаса мощным голосом, который никак не вяжется с его обликом, кричит: Good! — и после долгой паузы, позволив толпе откликнуться громовым эхом, продолжает: Evening!
Good evening! Такому, как Беринг, вполне достаточно этого крика, чтобы узнать неповторимый голос, который он так часто слышал по телевизору в моорском секретариате, из трескучих радиоприемников и наконец на пластинке из все той же коллекции майора Эллиота. Но по-настоящему не слышал еще никогда.
Те из фэнов, кто полагал, что теперь Паттон подхватит сумасшедший темп своих товарищей и снова раздует прерванную было бурю звуков, вдруг с изумлением слышат его одного. Паттону довольно возвысить голос, и с первой же нотой он — высоко над ревом толпы и всяким шумом внешнего мира, совсем один. Он поет.
Далеко от своих музыкантов и так близко от воздетых рук толпы, что иные хватают его за ноги; сжимая в кулаке микрофон, в сопровождении одной-единственной гитары, отчего весь прочий сверкающий арсенал оркестра кажется странно ненужным, Паттон кричит, поет, говорит, шепчет, выдыхает длинные мелодичные фразы, мнящиеся Берингу строфами какой-то lovesong . Во всяком случае, он слышит слова, само звучание которых волнует его и заставляет думать только о присутствии Лили, о ее руках, чье легкое прикосновение ему уже знакомо, о ее губах, совершенно незнакомых.
Этой песни в приозерье до сих пор не слыхали. Ликование утихло, сменилось тишиной, в которой голос Паттона звучит еще более мощно. И он сам, огромный, словно выросший от собственного голоса — даже фэны такого не ожидали, — стоит, сияя в темноте.
Беринг зябко ежится, хотя вечер теплый и безветренный; всякий раз, когда он погружается в прекрасные звуки, трепет сердца превращает его кожу в птичью, гусиную. Ему так хорошо, что даже страх берет: а ну как прекрасные звуки вот сейчас отпустят его, бросят. (И сколько же раз, очнувшись, он волей-неволей опять оказывался в дребезжащем мире, чуточку смешной, с встопорщенными тут и там волосками, — как всегда после какого-нибудь глубокого переживания.)
Но на сей раз зябкая дрожь не прекращается, и звуки не отпускают его, и ничто не выталкивает его обратно, во внешний мир. На сей раз прекрасные звуки еще и набирают силу и влекут за собой другие голоса, прежде всего бас-гитару — темнокожая гитаристка начинает вторить песне Паттона, сперва медленно, затем почти неприметно убыстряя темп. Словно тугая, длинная тетива гудит под пальцами лучника и не рвется — басовые ноты мчатся вдогонку за голосом Паттона, неотступно преследуют его по ступенькам причудливых пассажей, то вверх, то вниз, учащаются, подбираются все ближе.
И Беринг тоже карабкается вверх, и бежит, и скачет, а в конце концов летит вослед рукам темнокожей женщины и вослед голосу и становится совершенно невесомым — как в те мгновения, когда пробует уследить в хозяйский бинокль за стремительными фигурами птичьего полета, пока вовсе не теряет почву под ногами и не бросается очертя голову в вихри небес. Паттон поет.
Беринг летит. С закрытыми глазами выписывает он петли в небесах и плывет меж облачными грядами, когда чьи-то руки мягко увлекают его к земле — но не вниз , не в трескучий мир, а в гнездо. Руки в черной коже, прохладные и гладкие, точно крылья, обнимают сзади его плечи, обвивают шею. А к спине льнет теплое, легкое, как пушинка, тело, покачивается вместе с ним в ритме паттоновского голоса.
Ему нет нужды видеть серебряные браслеты на запястьях и чувствовать на шее прикосновения тончайших цепочек-подвесок, он и без того знает, что это Лили. От ее дыхания птичья его кожа становится еще шершавее. А потом он прислоняется к ней, и она поддерживает его, покачивает. Так было в начале его времени. Так он парил во тьме кузницы, укрытый в голосах пленниц-кур. Что же ему сделать, чтобы не растоптать ничего в этом раю? Никогда еще он не обнимал женщину. И не знает, что делать. Только бы голос, который держит их обоих в этом паренье, не умолк, не перестал петь.
Hell on Wheels! Паттон словно разбудил песней свой оркестр, а разбуженные словно почувствовали за спиной эту парящую, тревожную умиротворенность и тотчас вспомнили о своем девизе — внезапно все инструменты разом обрушиваются на паттоновскую мелодию, с такой силой кидаются на его голос, что он тонет в могучем наплыве звуков, но уже через долю секунды снова выныривает из этого прилива. Беринг видит водяную птицу: она плывет среди валов, и каждый раз, как волна, увенчав себя белопенной короной, норовит рухнуть на нее, похоронить, она взлетает, развеивая крыльями пену. Воодушевленный мощью, с какой этот голос проникает даже сквозь грохот ударных, Беринг и сам наконец словно бы поднимается ввысь и набирает силу — теперь ее достанет, чтобы взять руки Лили и высвободиться из их объятия.