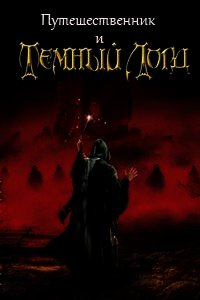Отрочество (СИ) - Панфилов Василий "Маленький Диванный Тигр" (книги хорошего качества txt) 📗
— А у меня, — жму плечом, но получается скорее дёрганье, — билет. Волчий. С запретом на дальнейшую учёбу в любых учебных заведениях Российской Империи. Обойти этот момент, наверное, можно.
— Но как-то, — кривая усмешка сама вылезла на лицо, — никто и не предлагал.
Лицо Уточкина сделалось таким виноватым, што неловко стало почему-то мне. Н-да, неудачно вышло.
— Какая игра! — Мавроматис, несмотря на проигрыш курируемой команды, доволен. Глаза сверкают, усы дыбом, левая рука на бедре, будто придерживая эфес.
Мы втроём начали обсуждать возможности организации футбольных команд и турнирную таблицу, но потом подошёл Абрам Моисеевич, и разговор перетёк на финансы. Ну… тоже нужно!
Над двором повисло самое похоронное настроение. Карантин!
Симптомы чумы выявили на работе у одного из жильцов, и… всё. Полная блокада.
Когда читаешь о противочумных мероприятиях, понимаешь эту жестокую целесообразность. Умом. А когда сам, то оказывается, совсем иное дело. Совсем!
Такая безнадёга накатывает, што и не передать. Хотя сейчас уже не Средние века, да и Семэн Васильевич обещал в лепёшку, а достать! Насчёт лепёшки верю, м-да… насчёт достать сложнее.
Вроде как и есть вакцины, но ходят устойчивые слухи, што не для всех. Запасец на случай, если заболеет кто-то из… не с Модаванки. И не с Пересыпи.
И ничего не сделать. Просто ждём. Хуже нет.
Восемнадцатая глава
Жаркое, злое, зачумлённое солнце быстро поднимается над крышами Молдаванки, накаляя кровлю, камни и головы.
Липкая, душная, жаркая ночь сменилась знойным и абсолютно безветренным днём. Жара! В небе ни облачка, и только солнце висит над головой раскалённым газовым шаром, внушая опаску своей вселенской огромностью.
Давит! Давит жара, духота и осязаемая всей кожей безнадёга. Атмосфера самая гнетущая, мрачная — несмотря на пылающий над головой безжалостный свет.
Ослепительно белый, он выжигает сетчатку глаз, и кажется — любую тень. Будто чудовищный размеров инопланетный корабль, солнце нависло над нами, испепеляя всё живое своими смертоносными лучами.
Свет его инквизиторский, абсолютно безжалостный не только к тьме, но и самой жизни. Ещё чуть-чуть, и камни начнут трещать от жара. Пока же трещат только черепные коробки, да вскипает кровь в расширенных венах.
От малейшего движения начинает болеть голова, и кажется, будто вены лопнут, обдав кровавым паров всё вокруг. Жарко…
Жильцы передвигаются медленно, оцепенело, замирая то и дело. На лицах будто маски смерти, виднеющиеся даже через натягиваемые улыбки. Глаза тоскливые, будто у коровы, которую ведут на убой. Всё-то она уже осознала, но идёт покорно, и только слёзы из глаз. Карантин!
Властям не верят, и все разговоры о том, што большая часть больных излечивается, а вакцина имеется, пропадают втуне. Камень, брошенный в болото. Бульк! И даже кругов по воде не осталось. Не верят.
Абсолютная, броневая убеждённость в том, што нас бросят. Глухие разговоры мужчин, обменивающихся иногда словами между затяжками, мрачные взгляды людей, которые знают, што живут в гетто. Без иллюзий.
Я не верю… и верю одновременно. Не хочу, а верю! Не самый ценный контингент.
Беспокойный, злой, лёгкий на подъём, опасный. Инородный.
И разговоры. Сами виноваты! Вы, жиды клятые, чуму принесли! Ваши контрабандисты! Или — раввины.
О Пересыпи схоже говорят… говорили. Сейчас не знаю, што там и как. Разве што без национально-религиозной подоплёки. Просто — выжечь! Рассадник!
Немногие так говорят. А вот думают… не знаю. Один процент, два, пять… Иногда достаточно решительно настроенного меньшинства для Революции, погрома, или отсутствия вакцин, не оказанной вовремя помощи.
Верить в такое не хочется, потому как бред для любого нормального человека. Как бы ни были настроены власти, а допускать распространение эпидемии не станут.
Но… говорят. И убёждённость в словах, твёрдая. Убеждённость людей, видевших и более страшные вещи. Не верить?
Привычные действия как попытка забыться, заглушить липкий, всепоглощающий страх. Хозяйки хлопочут, двигаясь как осенние мухи. Иногда они замирают, и смотрят невидящими глазами в пустоту. Страшно!
Уставится в угол, и смотрит, смотрит… А глаза будто нездешней поволокой подёрнуты, да губы беззвучно шевелятся, будто переговариваясь с мёртвыми.
Окликнешь такую, так отзывается не сразу, и ме-едленно так голову поворачивает, да из глаз потусторонность эта пропадает. На время.
Спросишь, о чём задумалась, так только вялое удивление в глазах. Задумалась? Да нет же… а сама так то десять, а то и двадцать минут стояла. Без движения.
Такой себе хоррор выходит, што и выдумывать ничего не нужно. Вот она, натура! Страшненькая. Тут и об одержимости сто раз передумаешь, и о других разных жутиках. Впечатлений! Век бы их не знать.
Дети вслед за взрослыми. Сонные, подавленные, еле двигаются. На лицах ужас сквозь гримаски детские пробивается. Малые пусть и не понимают ничего, но чувствуют эту гнетущую атмосферу, страх родителей.
Жутко на такое глядеть! Играет трёхлетняя кроха с куклой на пороге дома, разговаривает о чём-то с ней, улыбается. А ощущение такое, что нарисована эта улыбка. Грим! А под гримом оскал панический. Судорога ужаса, застывшая на детском личике.
Тишина… изредка только звякнет посуда у кого-то из хозяек, да раздастся детский голосок. И снова тишина, не нарушаемая даже мявом котов. Попрятались. От жары, от ужаса этого иррационального, накрывшего весь двор жарким, удушливым одеялом. Они ведь чувствуют! Не к добру попрятались.
Но нет-нет, да прорежет тишину двора полноценная женская истерика.
Сразу — гроза будто надвигается, электричество атмосферное ажно потрескивает. Чуть не искры, синеватые такие, мухами туалетными по двору промеж людей. Напряжение! Кажется, будто вот сейчас бахнет глухо, молнией шарахнет, и всё закончится. Прольётся дождём истерика, ужас этот, и снова — как всегда. Только облегчение у людей и природы.
А нет, только хуже. Каждый раз. Снова хозяйки ищут себе дело, снова мужчины латают крышу и по десятому разу переставляют мебель. Только лица всё напряжённей.
Кричат иногда разное через дворы.
— Эстэ-эр! Эстэ-эр! Жива ещё!?
— Не дождётесь!
И смех надрывный, через силу, от которого мурашки размером с тараканов. Но, как и все, тяну губы в улыбке. Йумор!
Санька рисует исступлённо, да не эту инфернальную атмосферу, проступающую в нашем дворе с иных планов. На полотне медленно, но верно проявляется Дюковский парк и матч футбольный. Кисточкой своей он будто не наносит мазки краски, а напротив — лишнее смывает. Смазывает.
Лицо совершенно нездешнее, светлое… просветлённое. На полотне проступает жизнь, которой у нас может и не быть. Яркая, с навечно застывшим на полотне движением, когда кажется — отвернись, и фигурки на поле продолжат исторический матч.
Моргнёшь, и недорисованные фигурки на поле двигаются, стремясь попасть на полотно всей своей большой и дружной компанией. Сами будто под кисточку прыгают, проявляясь на полотне.
Мишка с Фирой стрекочут машинкой в комнатушке. Делом заняты! Фира взбудоражена до полной лихорадочности. Учится!
Кроит под наблюдением брата. Экспериментирует! Ох и попортит недешёвой ткани… но пусть! Лучше уж так.
У неё сейчас вдохновение, творческий полёт. Полёт через ужас, н-да…
Мишка тоже весь при деле. Важный! Давно ли сам учеником был? А тут нате — учит! И получается ведь. Талант!
— Аааа! Да што эта за жизнь такая! — во двор выскакивает полная растрёпанная женщина. Чёрные с проседью волосы выбились из-под платка жирными змеями, струятся по плечам и спине, одутловатое лицо страдальчески искажено, — Лучше и не жить вовсе, чем жить так! Не жизнь, а сплошные страдания, с самого рождения и до смерти!
Завывая, она начинает рвать на себе одежду и заламывать руки, истерически хохоча. Внезапно прервавшись, она убегает в дом, штобы вернуться с шаткой горой посуды в руках.