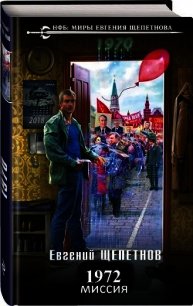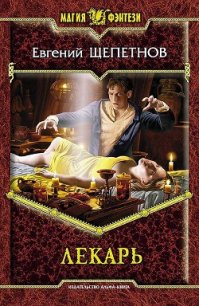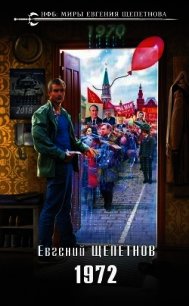Возвращение (СИ) - Щепетнов Евгений Владимирович (читать лучшие читаемые книги txt) 📗
Владимир Вавилов умрет в 1973 году от рака поджелудочной железы…и долгие годы люди так и будут считать, что музыка на пластинке, которую он выпустил, принадлежит другим композиторам. Увы…
Кстати сказать – вот еще задача на ближайшее будущее: во-первых, найти Вавилова и попытаться убедить его заняться своим здоровьем. Может быть все-таки можно будет его спасти? Ведь я читал о том, что погиб он потому, что поздно диагностировали рак, и операция не дала результата. Может, успеем?
Во-вторых, надо восстановить справедливость. Пусть человек хотя бы в конце своей жизни получит то, что ему причитается! Я издам его музыку в Штатах, с его именем и фамилией. И пусть люди знают гения! Это будет лучший ему…памятник. По крайней мере, он будет знать, что его не забудут и он не зря жил. Жаль, что я не умею лечить…за способность излечивать болезни я лично отдал бы все свои писательские способности. Нет ничего важнее в мире, чем спасать, лечить людей!
Мы сидели еще часа два, потом гости стали потихоньку расходиться. Первыми уехали Махров и Люба. У них одни оставались дети, и надо было срочно ехать домой, иначе те или что-нибудь подожгут, или затопят (со слов Махрова).
Потом ушли Раневская и Уланова. Раневскую вызвался проводить Богословский, который тоже попрощался и напоследок буквально потребовал выделить день и вместе с ним заняться оформлением «моих» песен. Потому что такое чудо не должно пропасть зря.
Остались только Высоцкий и Золотухин, изрядно поддавшие, но державшиеся прямо, даже нарочито прямо. С ними остался сидеть я – Ольга устала и по причине позднего времени отправилась спать. Я ее сам отправил, мне сидеть посреди ночи не привыкать, а она без сна никак не может долго терпеть.
Мы сидели и разговаривали, и я все ждал, когда же Высоцкий и Золотухин спросят главное, ради чего они остались. И я знал, что это за главное, большого ума для того не требовалось.
– Миш… – начал Золотухин – наверно, это глупо…но нам сказали, что ты можешь предсказывать будущее. Чушь, конечно, но было бы все-таки интересно от тебя услышать…что нас ждет? Меня и Володю! Можешь нам сказать?
– Могу. Но хотите ли вы это знать? Достаточно ли вы сильны, чтобы услышать правду?
Я был слегка пьян. Только слегка, но…в связи с этим находился сейчас в эдаком бесшабашно-яростном настроении, когда не выбирают выражений и когда правда-матка просто-таки лезет из твоего рта. Фонтанирует, понимаешь ли!
– Конечно! – с долей надменности ответил Высоцкий – ты сомневаешься в нашей мужественности? Мы мужчины! Ты считаешь нас слабыми?
– Володя…представь, что я скажу тебе дату твоей смерти. Как ты будешь после этого жить? Считая дни, годы, месяцы! Ты сможешь вынести эту муку? Я никогда никому не говорю точной даты. Мне жаль людей.
– Да ты просто дуришь людей! – фыркнул Высоцкий – ну вот скажи, ведь дуришь! Разыгрываешь! Ну не верю я в эту чушь, не верю! Давай уж, ври!
– Ври, говоришь? Ну, держись! Только потом не бросайся на меня с кулаками. Во-первых, ты сам этого хотел. Во-вторых, ты со мной не сладишь. Помни, что я Мохаммеда Али завалил, а уж тебя..хе хе… Ладно, не хмурься. И слушай.
Я замолчал, посмотрел в напряженные лица собеседников. Глаза их блестели лихорадочным огнем. Ну да – алкоголь. Да – любопытство, всяк человек, касаясь чего-то странного, непознанного жаждет услышать некое откровение. Все мы подсознательно верим в чудеса. А если не верим – все равно их жаждем, прекрасно понимая, что чудес не бывает. И вот – перед ними сидит настоящий провидец, который откроет их судьбу. Это ли не повод возбудиться сверх меры?
– Ты запойный алкоголик, Володя – рубанул я с плеча, и увидел, как расширились глаза Высоцкого – И ты это прекрасно знаешь. Жить тебе осталось восемь лет. Последние три года будут мучительными и страшными. В семьдесят шестом году какая-то сволочь посоветует тебе выйти из запоя с помощью хорошего укола. И ты согласишься. А это будет наркотик. И это будет дорога вниз. Ты будешь колоть укол после каждого спектакля, и в конце концов превратишься в насквозь больную развалину, с больной печенью, почками, сердцем, всеми органами. Умрешь ты двадцать пятого июля восьмидесятого года, во время Московской олимпиады.
Я замер в звенящей тишине, и решившись, начал читать стихотворение.
У памятника
Января двадцать пятого
Здесь толпится народ.
Тащат кони распятого,
А распятый поет.
Ни толпа благодарная,
Ни цветы – ни к чему:
Только дека гитарная
Служит нимбом ему.
Так заведено издавна,
И который уж год
Он на лентах, не изданный,
Не сдаваясь, живет.
А на кладбище встретятся
И кликуша, и тать,
Чтоб к певцу присоседиться,
Ведь ему – не прогнать.
Каждый ищет угодного…
Но когда тяжело,
Из плеча несвободного
Прорастает крыло.
Не Хлопуша, не Гамлет здесь,
Кем мы знали его,
А похож он до крайности
На себя самого.
С обнаженными нервами
Он, представший на Суд…
Кони вожжи повырвали
И несут… И несут…
Рука Высоцкого протянулась к столу, взяла бутылку с недопитым виски, будто сама по себе, и…остановилась. Отдернулась, как обожглась. Высоцкий прокашлялся, и хриплым, каким-то искаженным голосом спросил:
– Будут помнить?
– Будут. Живые цветы на могиле – круглый год – ответил я грустно, будто говорил сейчас со смертельно больнм человеком. Впрочем – а разве он не был смертельно болен?
– Тогда может я все-таки не зря жил? – губы Высоцкого дергались, будто он старался не зарычать, не сорваться в крик.
– Кто знает, Володя? – так же грустно сказал я – Кто знает, зачем мы в этом мире? Хочешь, я тебе расскажу анекдот о предназначении человека? Возможно, что ты его знаешь, но все-таки…
– Давай! – выдавил из себя бард, все еще силясь с собой справиться.
– Умирает человек, мужчина. Попадает на небеса, предстает перед ликом Бога. Бог отправляет его в рай, но мужчина, уже уходя оборачивается, спрашивает:
– Господи, можно задать тебе вопрос? Скажи, Всемогущий, каковым было мое предназначение на Земле? Для чего я жил?
– Помнишь, ты в поезде ехал в командировку в Краснодар?
– Помню, Господи!
– Ты пошел в вагон-ресторан пообедать, а сосед попросил тебя передать ему соль.
– Помню, да…я передал!
– Вот!
Высоцкий не улыбнулся. Я – тоже. И Золотухин был молчалив и грустен.
– Печально. Это очень печально! И что, ничего нельзя сделать? Совсем ничего?! – Золотухин глубоко вздохнул, потер глаза – неужели нельзя его спасти?
– Думаю, можно – пожал я плечами – Только он сам не хочет, чтобы его спасли. Он как самоубийца идет к краю пропасти, шаг за шагом, шаг за шагом. Володя, ты слабый человек. За твоей жесткой, и даже грубоватой натурой скрывается слабак. Ты боишься жизни, ты спасаешься от нее в алкогольном дурмане, а скоро будешь спасаться в наркотическом блаженстве. И я не знаю, что с этим можно поделать. Ты не перестанешь пить, даже если тебе тысячу раз рассказать, что ты убиваешь себя.
– Ты первый раз меня видишь! Как ты можешь знать, кто я и что я? – рыкнул Высоцкий, и лицо его исказила злобная гримаса – Как ты смеешь, молокосос!
– Мне пятьдесят два года, Володя – тихо сказал я, и Высоцкий вдруг осекся, видимо вспомнив, перед кем он сейчас сидит – Я видел многое, и такое, от чего тебя бы вывернуло наизнанку. Я убивал, и меня убивали. Я видел смерть. И я презираю людей, который сами себя загоняют в могилу из-за своей слабости! Из-за того, что они, видите ли, устали! Душа у них нежная и мятущаяся! Что так смотришь на меня? Морду набить хочешь? Попробуй! Ну, попробуй! Знаешь ведь, что не получится. А еще знаешь – что я говорю правду. Сейчас я хирург, который копается в твоем мозгу и вытаскивает наружу твою грязь! Володя, ты великолепный актер, и великий поэт. Но как человек – ты дерьмо!