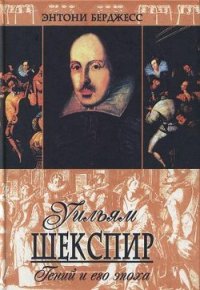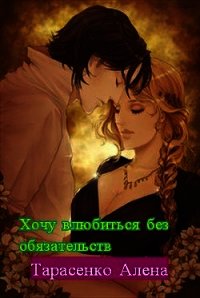Свидание с другом - Вольпин Надежда Давыдовна (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
А дальше я позволила себе небольшую лекцию о моем понимании законов построения образа, о его непременной иррациональности. Образ не как «корень квадратный из четырех» (здесь ссылка на Осипа Мандельштама, это его слова об имажинистах), а как равнодействующая двух различных сил. Тобою, говорила я, владеют противоречивые мысли, чувства. Их не выразить одновременно. В едином ряду поэтических средств, они между собой несоизмеримы. Как уравновесить? Найти одну равнодействующую силу? Вспомним правило начальной физики: параллелограмм сил. Если эти силы изобразим как некий квадрат и стороны его обозначим как величину «а», то их равнодействующая пройдет по диагонали квадрата, и выразится она так: «а» корней из двух — величиной иррациональной. И все же она реально существует в природе!
Вот так и образ. Он служит для выражения несоизмеримых, противоречивых мыслей и чувств, душевных движений. И он не может быть до конца раскрыт. Если же может, значит, он не нужен, он — украшательство, а не выразительное средство, необходимое поэту, его единственная возможность.
Неожиданно этот мой беглый экскурс в школьную физику и математику сильно заинтересовал Есенина. «Не шумите, — просил он соседей,— она говорит об очень интересном, очень важном». Позже, уже наедине со мною, он попросил повторить ему эти соображения, как и мандельштамовы, так и то, что домыслила я (о равнодействующей — диагонали квадрата, о необходимой иррациональности образа). Тогда, с эстрады «Стойла» я говорила и о том, что в моих стихах есть черта, отсутствующая у старших имажинистов: развитие образа в ходе стихотворения (например: падает звезда — звезда приравнивается к пуле — и дальше:
...Духами звезд падучих
Смерть запрягла слепых коней.
Это из раннего стихотворения (январь 1920 года) — то есть до моего вступления в ряды имажинистов.
Не знаю — и на этот вопрос, кажется, нет ответа в последней книге М. Ройзмана,— чем на самом деле было вызвано «изгнание молодежи». На эстраду «Стойла Пегаса» и меня, и Сусанну Мар продолжали выпускать, именуя «поэтессами-имажинистками». А вот из сборников имажинистов обе мы оказались исключены — как и не значились теперь наши имена на афишах больших поэтических вечеров, где поэты выстраивались по группам и школам.
НЕ УБЕРЕГЛИ
В тот вечер, едва вступив в зал, я в самом воздухе ощутила душащую тяжесть. В углу, в ложе имажинистов — одинокий, словно брошенный, сидит Есенин. Одна рука забыта на спинке дивана, другая безжизненно повисла. Подхожу ближе. Мерно катятся слезы, он их не удерживает и не отирает. Но грудь и горло неподвижны. Плачут только глаза. Поднимает взгляд на меня.
— Вам уже сказали? Умер Блок. Блок!
Шум голосов подступает ближе.
— С голоду! Лучший поэт наших дней — и дали ему умереть с голоду... Не уберегли... Стыд для всех... для всех нас!
С голоду? Да, я слышала, в самое трудное послереволюционное время, в страшные месяцы петербургского голода Александр Блок мучился цингой. Но слышала и то, что со всех концов страны шли к нему посылки, что цингу он лечил лимонами, а они тогда были в Петербурге на вес золота.
Чей-то голос:
— Бросьте вы, «с голоду»! Пил, как лошадь. Все косятся на Есенина.
И чье-то равнодушно-философское:
— Смерть причину найдет...
— Сорок лет! Для русского поэта не так уж мало. Пушкину было тридцать семь.
— Только ли для русского?
Посыпалось: — Байрону — тридцать шесть...— А Кольцову — тридцать пять?
— Шелли — тридцать...
— Китсу — двадцать пять. Моложе Лермонтова!
— Годы поэта... Их разве цифрами мерить?
Это в нас бросил Есенин.
ГОСТЬ ИЗ ОДЕССЫ
Есенин влюблен в желтизну своих волос. Она входит в образный строй его поэзии. И хочет он себя видеть светлым блондином: нарочито всегда садится так, чтобы свет падал на кудри. А они у него не такие уж светлые. Не слишком отягченные интеллектом женщины, для которых человечество делится на блондинов и брюнетов (увы, только ли для них!), зачислили б Есенина в разряд «темных блондинов». Зато эти волнистые волосы цвета спелой ржи отливали необычайно ярким золотом. (Соответственно и на щеках проступала рыжинка. Таким волосам свойственно сохраняться в памяти более светлыми, чем они есть на самом деле.
Всякое упоминание, что волосы у него якобы потемнели, для Есенина, как нож в сердце.
И вот однажды...
«Стойло Пегаса». Двадцать первый год.
Они стоят друг против друга — Есенин и этот незнакомый мне чернявый человек одного с ним роста, худощавый, стройный. Глаза живые, быстрые и равнодушные? Нет, пожалуй, любопытные. Холодные.
— Сколько лет? Неужели пять?
Не ответив, Сергей спешит поймать меня за руку, подводит к гостю. Знакомит взволнованно.
— Мой старый друг, Леонид Утесов. Да, друг, друг! Тот, не поглядев, жмет мою руку. И воззрился умиленно на Есенина. Актер, решила я (имя ничего мне не сказало).
— А кудри-то как потемнели! Не те, не те, потемнели!
Есенин грустно и как-то растерянно проводит рукой по голове.
— Да, темнеют... Уходит молодость...
Я сердито смотрю на Утесова. Зачем огорчает Сергея этим своим «потемнели»! Не знает, что ли? Светлые волосы с таким вот выраженным золотым отливом запоминаются еще ярче и светлей. Мне хочется объяснить это Сергею. Но одессит (я разобралась, гость — из Одессы) заспешил закрутить собеседника своими «А помните?!.» На лице Есенина... нет, уже не грусть, скорее, скука.
Когда гость заторопился уходить, Сергей не стал его удерживать. И ни разу в дальнейшем он не вспомнит о «друге из Одессы» — как раньше не слышала я от Есенина этого имени: Леонид Утесов.
ПИШУ ВАШ ПОРТРЕТ
Двадцать первый год. Место действия все то же — «Стойло Пегаса». Поздний вечер. Вхожу — Есенин встречает, усаживает за столик — не в «ложе имажинистов», а тоже слева, но поближе к входу, представляет меня своему собеседнику — Натану Альтману. Я знала и любила его знаменитый портрет Анны Ахматовой. Среди разговора Альтман вдруг останавливает на мне въедливый взгляд. И таким тоном, точно я сейчас должна умереть от счастья, объявляет:
— Пишу ваш портрет!
— Да? Сколько вы платите натурщицам?
На мой наглый ответ Есенин весело рассмеялся. Для него он значил: «Плевать я хотела, что ты знаменит, мы тут у нас каждый сам с усам!»
Все-таки я нашла нужным, отклонив так резко честь, пояснить художнику, что у меня — два брата и оба занимаются живописью. И нет для меня ничего тяжелее, чем позировать, когда они просят: кажется, и пяти минут неспособна посидеть, не двигаясь.
ОЧКИ И ВУНДТ
Осень, год 1921. Богословский переулок. Дверь на мой звонок открывает Леночка, официантка из «Стойла Пегаса». Высокая, тоненькая, темноволосая, очень изящная. И строгого поведения.
— Наденька! — вырвалось у нее.
Вот уж не знала, что здесь я зовусь заочно Наденькой — не «Вольпин». Не знала и того, что прислуга «Стойла» обслуживает «хозяев» и у них на дому. Леночка вводит меня не в ту квадратную, меньшую комнату, где я бывала не раз, а в соседнюю с той — продолговатую и более просторную. Есенин сидел на узеньком диванчике справа. Моим приходом он явно обрадован — но и смущен. Поспешно вскакивает, срывая с глаз очки. Простенькие, в круглой оправе.
— Не снимайте. Я вас в очках еще никогда не видела!
На минутку надевает их снова. Как-то виновато усмехается. Очки ему не к лицу. А точнее сказать — придают детский вид: словно бы ребенок, балуясь, нацепил на нос запретную игрушку старших. Вот и усмешка сейчас у Сергея по-детски виноватая.
Перед диванчиком стол, на столе раскрытая книга. Большого формата, но не толстая. В темно-синем коленкоровом переплете. Вундт, университетский учебник психологии.
— Интересно?
— Очень. Замечательная книга. Просто захватывает.
Но разговор наш тут же свернул сам собой на другое. А часа через два, когда я собралась уходить, Есенин на прощанье протягивает мне своего Вундта. Спрашиваю:
— Когда вернуть?