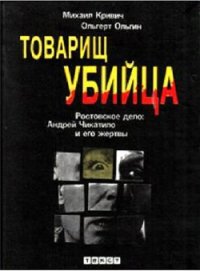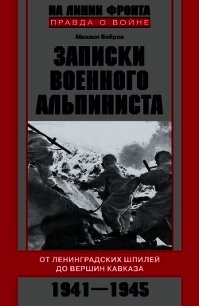Ход кротом (СИ) - Бобров Михаил Григорьевич (читать онлайн полную книгу TXT) 📗
В наши времена кто же беспокоится о пацане, торгующем жопой при чурках. Но времена отличаются не количеством танков и не частотой расстановки заклепок, а отношением и поступком. Ушел сотник Наливкин в гражданскую службу, а службы не умел вовсе, и только жена подсказала выход. Продали кольца, продали приданое, купили участок и дом. Холодную туземную саклю, в которой прожили шесть лет, и дети Наливкиных услышали русскую речь только по достижении школьного возраста, потому что на весь огромный Наманганский уезд русских семей обитало три. Один, два, три — это не опечатка от слова «тридцать» или «триста». Это три семьи на сотни километров жары, чуждой речи, неприятных обычаев… И единственная русская школа при Ташкентском гарнизоне, а вокруг все еще война с Кокандским Ханством, с Бухарой, с Хивой…
Жили Наливкины обычными декханами, мотыжили землю, слушали перебранки соседей. Вели дневник, и по их-то запискам, оформленным, изданным, награжденным Большой золотой медалью русского географического общества, до сих пор изучается этнография оседлых узбеков, тех, что гордые кочевники называли «сар-ыт», «желтая собака», сарт. И сам Лев Гумилев, автор теории пассионарности, позже учил узбекский по их, Наливкинским, словарям. Других русско-узбекских словарей очень долго попросту не было!
Затем выправился душой казачий сотник. Благодаря исключительному знанию обоих миров — туземного декханского и русского имперского, на стыке которых оказался, как на лезвии — сделал в Туркестане стремительную карьеру. Местные уважительно звали его «домулла», то есть наставник. Неместные скрипели зубами, ибо характер у сотника сохранился казачий, и взятку он мог просителю не только запихнуть, но и шомполом утрамбовать, а большого начальника из самой столицы легко послать по следам Пржевальского, только без лошади. Но в те годы не существовало в Туркестане человека, сведущего в обычаях и жизни населения лучше Наливкиных, а потому до вице-губернатора сотник дослужился, и в оставку вышел чином уже генеральским.
На пенсии же избрали его, по всем известной честности, во временное правительство. А там он уже сам, при помощи все того же характера, рассорился и с красными, и с белыми. И замкнулось кольцо, и ударился дед в бега… Где же любовь?
Любовь — девочка Маша из Саратова, мечтавшая поездить по миру, посмотреть Париж и Рим, любившая музыку и театр, но мужа все-таки больше. Жизнь так и не сумела сделать ее ни нытиком, ни истеричкой, отравляющей существование окружающим, а уж, казалось бы, как судьба старалась! Мария не потребовала от мужа оставить избранный путь, перебраться куда полегче и поспокойней. Бабушка Мария отошла в своем доме, тихо и мирно, в кругу безутешного потомства, в тот самый ноябрь, когда в домах-колодцах Петрограда еще отражался выстрел «Авроры», а похоронили бабушку на Ташкентском православном кладбище.
Снилась мне фуражка казачья на шлифованом камне, а под фуражкой записка: «В смерти моей прошу никого не винить» — и еще что-то, про «вместе в горе и в радости», и, спиной к надгробию, сидел старик с расчесанной надвое бородой, и остывший уже револьвер его затягивало вездесущим азиатским тонким песком.
Вот она любовь, хозяин, вот они, настоящие-то попаданцы. Хочешь ли такого, али не выдержит сердечко заячье, как-нибудь перебьешься сексом да гаремом?
Снилась мне Фудзи в снегах, и ревели сирены над городом у ее подножия. Чеканили слова развешанные повсюду динамики: «В Особом Регионе Токио-три объявлено чрезвычайное положение!» Из-за горы задом наперед спасались от неведомой пока напасти конвертопланы с буквами UN, яростно отстреливаясь. Вышла, наконец, из-за склонов инопланетная напасть: «две руки, две ноги, посередине сволочь», точно как в той, чужой жизни. И спокойно, с удовольствием от простой, привычной для попаданца работы, я наводил перекрестие дальномера на середину фантасмагорической твари. Девять восемнадцатидюймовых со спец-БЧ, и это я еще про ракеты не заикаюсь… Чем плохо?
Тем, что я бы и там нашел, куда жало всунуть. Никак у меня не получается смирно лежать. Гроб надо заказывать с ремнями безопасности, а то мало ли… Взорвался неподалеку шильный завод, и не смогли доктора извлечь из юного организма застрявший образец его продукции. Дескать, сильно уж близко к жизненно важным органам шило засело. К счастью, для здоровья оно неопасно. К сожалению, неполезно. На спине смирно не улежишь, на ягодицах ровно не усидишь… Не спас карантин, диагноз «весна».
Тогда приснилась весна, и на Марсе яблони цвели. За белой пеной возносились над выжженым летным полем космодрома Олимпия стройные блистающие корпуса, окутанные голубоватым сиянием «нулевого элемента». И фигуристая Джейн Шепард в обнимку с тростинкой-аватарой «Нормандии» SR1, улыбаясь, махала руками на камеру. Да, здесь Туманный Флот вышел в космос. И аватары имели не морские корабли, но межзвездные. А вот что я там делал? Не успел досмотреть, сон опять утратил краски, застыл отпечатком дождя на стекле, истаял осевшим дыханием.
Надо мной медленно, плавно, незаметно для обычного человека, покачивался снежно-стерильный подволок жилого блока линкора «Советский Союз». Часы на стене изображали восемь утра. Чувство времени — то самое, что я так долго взращивал в квантовой сети и вот, наконец, взрастил — исправно сообщало дату. Двадцатое мая одна тысяча девятьсот тридцатого года. Чувство пространства, успешно переложив циферки координат на человеческие мерки, докладывало, что мы в Английском Канале, сиречь, проливе Ла-Манш. Справа на траверзе Дувр, слева и чуть поодаль Дюнкерк. Ясно, видимость отличная, волнение четыре балла, ветер северный, девять-одиннадцать метров, порывами до двадцати. Состояние пациента в медицинском блоке наконец-то пришло в норму.
Какого черта я в Ла-Манше?
Почему тридцатый год? Я что, снова квантовую физику почитать взял на сон грядущий?
Что еще за пациент в медблоке? Откуда? Кто?
Тут я вспомнил все.
Совсем все.
Выругался громко, витиевато, напрасно пытаясь избыть стыд и огорчение. Резко выдохнул и пошел одеваться.
Будет ласковый дождь
Одеться удалось на удивление легко. Не сразу он понял, что теперь левая рука, давным-давно переломанная пролеткой и с тех пор не очень-то послушная, заработала как новая. Подобрал чистую одежду, поморщился в усы при виде нагана и трех приготовленных скорозарядников — на столике, под сеткой, чтобы не сползло при качке.
Стало быть, на корабле?
Но помещение ничем не напоминало знакомые по визитам стальные потроха крейсеров и царских дредноутов. Глухие стены, обильно уставленные медицинскими приборами, колбами да никелированными резаками всевозможных форм на остекленных полках. Коробки, мерцающие россыпью зеленых и желтых огней. Редкие участки, свободные от машинерии, вместо дерева обшиты гладким, на ощупь теплым, светлых оттенков, металлом без единой заклепки.
Сам свет — белый, яркий, неживой — льется из прямоугольных кусков потолка… Моряки, кажется, потолок называют по-своему: «подволок». Порог у них «комингс», и высокий, чтобы вода не заплескивала под герметичные двери. А тут обычная комната, и дверь обычная. Разве только сдвижная, как в кино «Подвиг разведчика», где ротмистр Бестужев посреди Токио рубился на шашках с местными чернолицыми абреками, кузнечиком перемахивал черепичные крыши… У тех абреков тоже имелось особое название, только сейчас упорно не шло на ум… А потом ротмистр, выбравший все же после революции в Россию не возвращаться, стоял на диких зеленых скалах, вглядывался в садящееся над русским берегом солнце и пел душевынимающе: «Я в весеннем лесу пил березовый сок…»
Вздохнув, он осмотрел патроны в скорозарядниках: на вид нетронуты, но кто знает, не подпорчена ли начинка? Зарядил один барабан, защелкнул и привычно сунул за голенище, в нарочно для того пришитый кармашек.
Тут мозг, наконец, включился, и все неважное вылетело из головы.
Словно бы отвечая на невысказанный вопрос, прямо на полу вспыхнула зеленая каракатица из нескольких стрелок, указывающих на уборную, выход и что-то еще.