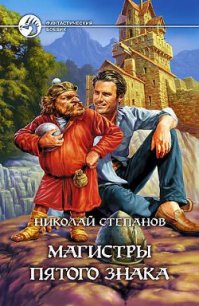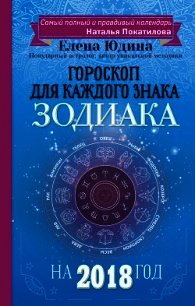Держатель знака - Чудинова Елена В. (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
«Г-н Вишневский! Возможно, Вас удивит это письмо, кроме того, покажется шокирующим и, во всяком случае, несколько странным. Смерть перестала быть сколько-нибудь значительным событием для русских, и нет причин особо выделять смерть экс-прапорщика Добрармии Сергея Ржевского из сотен других…
Я далека от мысли просить кого бы то ни было проявлять к этой смерти чрезмерный интерес. Тем не менее я знаю, что деловые обстоятельства могут столкнуть Вас с лицом, для которого мой рассказ не покажется излишне подробным. Это – Евгений Чернецкой, и я буду крайне Вам признательна, если Вы сумеете переадресовать это письмо ему.
Бывших знакомых, помнивших Сережу Ржевского по передовой и подполью, неприятно удивлял его более чем замкнутый образ жизни в Париже. Причина была более чем проста: Сережа был тяжело болен физически и душевно и слишком горд, чтобы этого не скрывать. Помимо временами обостряющейся лихорадки (пуля, извлеченная чуть ли не перочинным ножом) Сережу чем дальше, тем сильнее беспокоило пробитое на Дону правое легкое: по утрам он часами откашливался кровью. Сереже было не совсем по силам то количество работы, которое он вез на себе в Комитете. Винить некого – когда он, безупречно одетый, как всегда летяще быстрым, насмешливо-отчужденным появлялся в Комитете или в Школе Хартий, где был занят последние месяцы научным наследием отца, погибшего в Москве от тифа, никто не мог бы подумать, что каждое такое появление на людях обходится ему приступами болезни. Кто бы узнал его в эти часы? С какой-то необыкновенной быстротой худевший, с обметанными жаром губами и спутавшимися влажными волосами – он мог так долго неподвижно лежать на постели, глядя в потолок – такой низкий, слушая дождь, с такой нерусской тоской бьющий по наклонному окну; револьвер всегда лежал у него под рукой – по привычке, появившейся после Чеки… Так темнел в эти часы взгляд его серых глаз… В бреду лихорадки к нему приходило то единственное воспоминание, которое он скрывал от меня наяву. Женя, может быть, Вы лучше, чем я, это поймете: там, в Петрограде, случилось что-то, чего Сережа так и не смог пережить, что-то, бесконечно отвратившее его от любых попыток дружеского к нему участия… Он был вынужден сделать что-то слишком противное своей сути. Любых неформальных отношений с людьми своего круга Сережа в последние полтора года своей жизни не хотел и не принимал.
Летом 1920 года я служила судомойкой в цыганском кабаре «У Яра». Название кабаре, впрочем, было бы слишком громким для подвала на полтора десятка столиков с перегороженными фанерой клетушками уборных, по которым всегда гуляли сквозняки: мне не один раз доводилось там ночевать. Одна из актрис, исполнительница романсов – Нина, на правах старой знакомой обратилась ко мне с просьбой поставить свечу за упокой души ее знакомого офицера. С его гибели исполнялся год. Это поручение привело меня в пригородную церковь Сергия Радонежского, ту, в которой мы через месяц обвенчались – по Сережиному настоянию – с соблюдением всех прадедовских обрядов…
Я не рассчитала дороги и вошла в церковь сразу после службы: было уже полутемно. «Упокой, Господи, душу раба твоего Платона», – негромко произнесла я, ставя свечу.
«Графа Зубова», – почти шепотом сказал кто-то у меня за спиной. Кто бы не вздрогнул на моем месте? Я поспешно обернулась: молодой человек, как мне показалось, лет семнадцати, – Вы знаете, что Сережа всегда казался моложе своих лет – тоже держал в руке свечу. «Да, графа Зубова, откуда Вы это знали?» Не отведя от меня чуть прищуренного холодно-серого взгляда, он вместо ответа зажег свою свечу от моей и повторил мои недавние слова: «Упокой, Господи, душу раба твоего Платона». «Сегодня годовщина, – произнес он, идя со мною к дверям, – я тоже шел за этим. Надеюсь, Вам это не покажется дерзостью – я обязан покойному графу жизнью, и долга мне уже не отдать». «У меня нет права на Ваше объяснение, – поторопилась ответить я. – Я всего лишь выполняю поручение подруги».
«Вы позволите мне представиться? Сергей Ржевский. Если Ваша подруга – знакомая или родственница графа, я был бы рад засвидетельствовать ей свое почтение». «Думаю, что это несложно», – спокойно сказала я. Сережа смотрел на меня: ослепительно-чистый в своей холодности – и все отвращение к людям, которое побуждало меня в глупой браваде браться за самую унизительную работу, сохраняя свободу одиночества, вспыхнуло во мне приливом ненависти. Еще больше я ненавидела в эту минуту себя – за доверие, которое Сережа вызвал во мне с первого взгляда. Разбить это доверие – только этого мне хотелось, разбить скорее, пока это еще не может причинить оскорбительной боли.
Грязной лестницей черного хода мы поднялись в кабаре. «Вы позволите?» Светскость тона, с которым он распечатал пачку каирских папирос, была бы более уместна в приличной гостиной, чем в третьеразрядной уборной с фанерными стенками, оклеенными рекламами мыла и женского белья. «Постой же», – подумалось мне. «Нина, тут тебе хотят засвидетельствовать почтение». «Настя, кандилехо, да никак ты с кавалером? – с цыганской напевностью протянула моя подруга. – Ай ночевать негде?» Сейчас он вспыхнет и заторопится уйти; этот чистенький красивый мальчик. Я посмотрела на него с вызовом. «Благодарю Вас, мы как-нибудь выйдем из положения. – Сережины глаза смеялись, встретясь с моими. Сдвинув груду запачканных гримом тряпок, он сел на диван. – Расскажите мне о Платоне».
В ту ночь мы просидели втроем до пятого часа утра. Через месяц мы с Сережей были женаты. Мы были счастливы целый год – счастливы несмотря на то, что не могли быть счастливыми, счастливы, слишком часто открывая друг другу во сне все, что таили днем. Сережа умел быть счастливым до конца.
Это случилось в начале августа, более точно – второго числа. Как будто вчера: летящие Сережины шаги по лестнице… Что могло меня обмануть? Этот мальчишеский беспечный смех, с которым он вытаскивал из карманов еще горячие бумажные пакетики каштанов… Презрительно-веселый взгляд, брошенный на груду бумаг на столе, – с такой тоскливой неуклонностью грозящую отнять вечер, может быть, и кусок ночи. «Настенька, имеем мы право хоть раз в жизни послать все это к черту? Мы сто лет не гуляли по ночным бульварам». В тот вечер мы словно блуждали за тенью Рембо, «Сезон в аду» которого последние месяцы был для Сережи настольной книгой.
Сена весело качала в черной воде цветные отражения фонарей. Сережа читал на память свои любимые строчки о золотых струнах, рассказывал о вашей пьянке в Коувала… Сережа был очень весел в этот вечер.
– А все же, в честь чего мы кутим сегодня?
– В честь отъезда в Медон: я заходил в банк.
– Тебе дают отпуск?
– Нет, вы с Женькой едете без меня (Сережа не допускал мысли, что ребенок может оказаться девочкой).
– Я не поеду одна.
– Одну я бы тебя и не отпустил, кандилехо. – Сережа обернулся от парапета: лицо его казалось в ночи мертвенно-бледным, и в черноте зрачков, как в воде Сены, дрожали отражения фонарей. Он переплел свои пальцы с моими. Спокойствие исходило от его теплой руки. – Я отпускаю вас обоих. Настя, я не хочу, чтобы Женька вдыхал аромат этой гнилой «серой розы». Погуляйте по лесам. Настя, в Медоне охотились короли.
«В сосновом бору живет эхо дальнего рога?» – Мой взгляд притягивала черная вода – так редко выбирались мы в те месяцы на набережную вечерами. «Эхо дальнего рога…» Я обернулась слишком стремительно: Сережа, закрывая ладонью глаза, закусывал нижнюю губу с каким-то беспомощно-детским выражением боли.
– Что ты?
– Мигрень, устал от бумаг. Пожалуй, буду без тебя отменно гулять вечерами, – он улыбнулся, – в Медоне охотились короли.
«2.VIII. 10, Rue de Grenoble. Dr. Lacasse.
12 p. m. Ds. Tuberculosis. Un mois!» 87 – прочла я в его записной книжке месяц спустя.
Я воздержусь от подробностей, конец наступил через три недели, в мое отсутствие, как того и хотел Сережа. До последней недели своей жизни мой муж не прекращал работать.
87
«2. VIII. 10, улица Гренобль. Др. Лакасс. В 12 час. Диагноз: туберкулез. Один месяц!» (фр.)