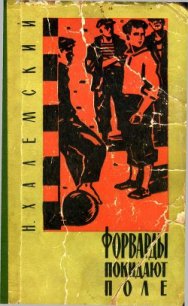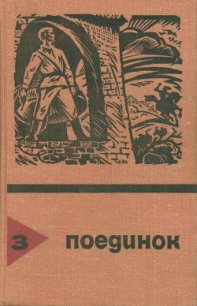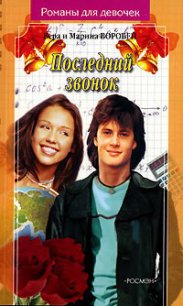Последний поединок - Халемский Наум Абрамович (прочитать книгу .TXT) 📗

Когда после целой серии ударов штурмбаннфюрер получил, наконец, возможность положить в правый угол «тройку», он сказал, усмехнувшись:
— Это тебе не на стадионе…
Русевич понял. Как ни трудно было ему играть с «Люфтваффе» в окружении эсесовцев и овчарок, там, на стадионе, он был не один. С ним были товарищи. С ним был весь Киев. А здесь он был один, и его противником был его палач. В ком он смог бы найти сочувствие среди этой пьяной офицерни? Лишь один раз за четверть часа игры он оглянулся — и увидел лишь полные вражды и презрения взгляды.
Он прицелился от короткого борта в дальний левый угол. Радомский скептически усмехался. Он знал заранее: такой шар положить невозможно. Но, странное дело, луза казалась намагниченной, а шар — железным. Не замедляя, а словно ускоряя движение, «одиннадцатый» влетел в лузу.
— Неплохо, — с напускным равнодушием бросил Радомский. Он обернулся к тумбочке и проглотил рюмку коньяка. Тут же он положил «двойку». Присутствующие горячо зааплодировали. Гедике воскликнул радостно:
— Поистине мастерский удар!
Аплодисменты и возгласы еще не смолкли, как тонко срезанный Русевичем «туз» неспеша скатился в среднюю лузу и вслед за ним с громким выщелком, посланная через весь стол, в угол влетела «семерка».
— Скандал!.. — растерянно оглядываясь по сторонам, проговорил Гедике.
Штурмбаннфюрер бросил на него свирепый взгляд:
— Это не футбол… Без комментариев!
Гедике съежился и отошел к стене; в увлечении он забыл, что должен был всячески ободрять и поддерживать начальника.
Азарт и свирепость как будто помогали Радомскому в игре. Он забил «шестерку». Его опять наградили возгласами одобрения и аплодисментами. Раскрасневшийся, потный, он покровительственно улыбался зрителям.
— Нас еще никто не побеждал…
Однако Русевич больше не позволил ему забить ни одного шара. У Николая появилась, как выражаются биллиардисты, «старая кладка». Каждый намеченный им шар врывался в лузу с таким треском, будто кто-то стрелял из ракетницы. Николай примечал: штурмбаннфюрер все больше мрачнел, и тишина становилась все тяжелее. Однако Русевич делал вид, словно интересуется только игрой… Он вогнал в лузу последний шар.
Положив на стол кий и тем давая понять, что игра окончена, Радомский вытер платком вспотевшее лицо.
— Господа, — заявил он, натянуто улыбаясь, — вы знаете, кто у меня сегодня выиграл?
Он небрежно кивнул на Русевича.
— Вы думаете, этот чурбан? Сегодня у меня выиграл самый непобедимый чемпион… — он сделал паузу, — Господин Коньяк!
Все дружно засмеялись.
Повернувшись к Русевичу, штурмбаннфюрер смерил его взглядом.
— Что же ты стоишь? Или ждешь награды? Пошел!
Сложив за спиной руки и глядя в пол (только так разрешалось держаться при начальстве), Русевич прошел через зал напряженным, коротким, лагерным шагом. В тягостной тишине он слышал только стук своих стоптанных каблуков и еще какой-то низкий, тоскливый звук: это в оконной раме лихорадило треснувшее от мороза стекло.
На мгновение ему показалось, будто в этом зале, наполненном приторным запахом духов и вика, он был совершенно один, и это необычное одиночество среди такого количества людей вдруг стало невыносимо жутким… Но вот и дверь, и он проходит в соседнюю комнату — за нею выход в коридор, — но… что это? Оконные стекла со звоном сыпятся к его ногам, падает штукатурка, огромный шелковый абажур мечется под потолком из стороны в сторону. Где-то очень близко, словно у самого окна, дробно и отрывисто гремит очередь автомата, глухо рвется граната, яростно лают сторожевые псы, слышны какие-то крики, и весь этот внезапный ночной переполох вдруг покрывает тревожный и тоскливый вой сирены.
Николай оглядывается и успевает запомнить бледные лица офицеров и их дам — меловые пятна, но не лица… Почему же по сигналу тревоги, на этот истерический вопль сирены, никто из офицеров не спешит, никто не бросается к выходу? В сознании Николая эти томительно долгие секунды запечатлеваются, как остановившийся кинокадр. Необычная и страшная в своей нелепости картина: вот маленький Гедике приподнял руку и замер, не закончив какую-то фразу… На лице его замерла усмешка… Сбычившись и растопырив пальцы вскинутых рук, будто парализованный, застыл Радомский… Надменный Эрлингер прижался спиной к стене, и резкий горбоносый профиль его казался вылепленным из глины. Пышная дамочка, вся в побрякушках, жеманно присела и точно окаменела в этой странной позе…
Из коридора, громыхая по ступенькам, в первую комнату вбежал запорошенный снегом рослый лейтенант. Он щелкнул каблуками и испуганно выкрикнул:
— Они бежали… Пытались бежать!..
Пауль Радомский сразу же пришел в себя и стремительно метнулся к офицеру.
— Кто?.. Когда?!.
Вытянув руки по швам, офицер доложил:
— Четвертый сектор… К нему подкрались партизаны…
Радомский рассвирепел:
— Они схвачены? Да говори же скорее, болван! Партизаны схвачены?
— Один тяжело ранен… — испуганно отвечал офицер, — кажется убит. Но…
Эрлингер широко шагнул вперед и стал рядом с Радомским.
— Что значит «но»? Говорите!
— Несколько заключенных успели бежать… Начата облава. Партизаны хорошо вооружены.
— Старшего дежурного по лагерю — под арест! — хрипло закричал Радомский. — Мерзавец! Я вытяну из него жилы!..
За дверью послышались говор и шаги. Показалась спина, блеснул погон, еще один погон… Четыре эсесовца, скользя на ступеньках, внесли какой-то длинный тюк. Они опустили его на пол, выпрямились и одновременно козырнули. В этом обмякшем тюке Николай успел рассмотреть очертания человеческого тела.
— Обыскать, — приказал Радомский.
Офицер снова щелкнул каблуками, обветренное лицо его было багрово-синим.
В суматохе все забыли о Русевиче. Он стоял в углу коридора, наблюдая за эсесовцами, обыскивавшими убитого.
Быть может, не больше двух-трех секунд Русевич видел неподвижное лицо партизана. Но этого было достаточно. Он узнал Дремина.
В степи
Заветная мечта фрау Нелли, наконец-то, сбывалась. Она уезжала на Запад… Казалось бы, для нее не имело смысла покидать Киев в самом начале 1943 года, когда фашистское радио чуть ли не ежечасно возвещало о новых грандиозных победах немецкого оружия, когда газеты оккупантов пестрели астрономическими цифрами русских потерь, а доктор Геббельс (в который уже раз!) торжественно сообщал, что фактически советские армии больше не существуют. Но у всех на устах был Сталинград, печать траура лежала на лицах немцев — поэтому их победные клики никого не могли обмануть.
Неля уезжала. Наиболее надежным из всех ее новых друзей и знакомых оказался шеф. Он сказал ей по секрету, что больше не верит ни радио, ни газетам, ни сводкам, а верит только тому, что видит сам. Он видел бесконечные санитарные автоколонны — груды обмороженных и раненых немецких солдат, разбитые танки на платформах, исковерканные «Юнкерсы» и «Мессершмитты», с крестами на печально поникших, переломанных крыльях.
Возможно, он задержался бы еще на некоторое время на этой щедрой украинской земле, где так легко было делать деньги, где каждая буханка хлеба, спущенная на черный рынок, приносила две и три тысячи процентов прибыли… Возможно, он подыскал бы доброе поместье, завел бы обширное хозяйство — коровники, свинарники, птичники, пасеки — и снова делал бы деньги, живя припеваючи и разъезжая в гости к помещикам-соседям. Но злые украинские «хлопы» охотились на приезжих помещиков, как на зайцев, а у господина Шмидта не было ни малейшего желания получить где-нибудь на проселочной дороге заряд дроби в спину или пониже спины.
Кроме того, он видел, что крупные тузы-землевладельцы, прибывшие на Украину для хозяйственного освоения этих «диких» просторов, потолкавшись в Киеве, незаметно убирались в фатерлянд. Кому другому, а им-то хорошо был известен прогноз военной погоды на завтрашний день.