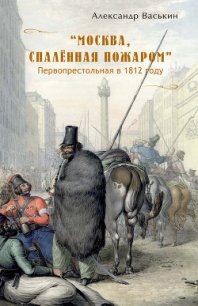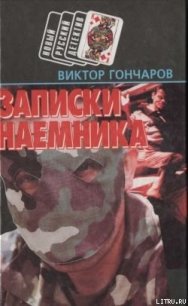Битва за сектор. Записки фаната - Жвания Дмитрий Дмитриевич (бесплатная библиотека электронных книг txt) 📗
– Я сказал – в приемник! – заорал пузатый. Его подчиненные потащили нас в пикет оформлять протокол. Все закончилось тем, что меня и Малышева просто вытолкали со стадиона. Как потом выяснилось, то, как нас выносят с трибун, увидел начальник СКА, майор, не помню его фамилию, он знал меня и других ребят. Его возмутило зрелище, и он пошел разбираться. В Ленинграде и в Москве в годы перестройки менты вели себя поскромней. Видимо, до Киева «ветер перемен» долетел позже.
В общем, нас просто выгнали со стадиона. Но мы сумели пройти обратно через служебный ход с киевской командой из низшего дивизиона и досмотрели матч, сидя в служебной ложе.
Вспоминаю ментовский удар, который я получил в Лужниках летом 1984 года. Закончилась финальная игра Кубка СССР. «Зенит» проиграл 0:2, и я будто потерял близкого человека. «Зенит» шел к той финальной игре с 1944 года. Весь наш город жил ожиданием, когда хрустальный кубок вновь приедет на берега Невы. Шансы взять кубок были очень велики, так как другой финалист, московское «Динамо», находился в разобранном состоянии. Это сейчас на любой московский матч «Зенита» выезжает по десять тысяч человек. В середине 80-х все было иначе: за командой моталась небольшая кучка фанатов. Но на финал Кубка СССР отправилось не меньше тридцати тысяч ленинградцев, а то и больше. Были пущены дополнительные поезда, но и все равно многим пришлось добираться на электричках. И такой провал… Я испытывал боль, как от вонзающегося в тело ножа, когда динамовцы Валерий Газзаев и Александр Бородюк забивали голы в ворота Миши Бирюкова. Раздавленный поражением, уходя с трибуны, я крикнул: «Зе-е-е-нит!», и тут же получил удар в затылок, такой сильный, что закружилась голова, потемнело в глазах. Придя в себя, я повернулся и увидел мента, совкового такого, усатого.
– Чего орешь?! В пикет захотел?
Я ничего не ответил, просто посмотрел на него, усатого, мол, я запомнил тебя, и, потирая затылок, медленно спустился с трибуны и ушел прочь со стадиона.
Я запомнил того мента, и он в моей памяти олицетворяет то, что принято называть совком. Точнее, даже не сам мент, а те порядки, которые он охранял. В середине 80-х годов в Москве на стадионах нельзя было кричать, размахивать флагами, хлопать в определенном ритме, можно было только аплодировать.
Я крикнул, за что и схлопотал крепкий подзатыльник.
Вспоминаю «зенитчика» Адвоката, с которым я пробивал выезд в тот же Киев на «Зенит» летом 1984 года. Адвоката закрыли на три года только за то, что случайно сбил фуражку с ментовской башки. На одном из домашних матчей он начал размахивать «зенитовским» флагом, что было в те годы запрещено, менты из оцепления сумели добраться до него и стали винтить. Адвокат, падая, инстинктивно махнул рукой и… сел на три года.
В начале 90-х я случайно встретил Адвоката на Сенной площади, где была барахолка. Адвокат растолстел, полысел, сразу было видно: парень хлебнул лиха, и чтобы выжить, занимается чем-то таким, о чем всем не расскажешь. Мы перемолвились парой фраз, выяснили, что на футбол ни один из нас больше не ходит, и расстались.
Иногда меня спрашивают, почему я всегда против власти, мол, если в двадцать лет ты не был революционером, у тебя нет сердца, но если в тридцать лет ты не стал консерватором – у тебя нет мозгов. Мне уже давно не тридцать лет, а консерватором я так и не стал. И мозги вроде на месте. Не знаю, революционер я или нет, но то, что я бунтарь, – это точно. Да, окраска моего протеста то и дело меняется, я был анархистом, троцкистом, национал-большевиком, а сейчас даже сам не знаю точно, кто я. Чтобы как-то определить свое мировоззрение, называю себя правым анархистом. Но никто не может мне сказать, что когда-нибудь, пусть вынужденно, я помогал власти, оправдывал ее действия. Я всегда против власти. Всегда. Почему? Причин много. Но одна их них – ментовская. Власть охраняют менты, вот в чем проблема. Те самые менты, которые не считают для себя позорным бить подростков по шее. Они сделали все, чтобы я возненавидел государство и его слуг еще тогда, когда я гонял за «Зенит», а затем за СКА. Для них я был тогда изгоем, криминальным элементом, отбросом общества. А для меня фанатизм был движением молодежного протеста, вызовом благопристойной публике. И власти.
Я не жалею, что когда-то пришел на стадион и сел на фанатский сектор. Конечно, я вижу все недостатки фанатской субкультуры. Недостатки – это мягко сказано. Пороки! Фанатизм абсурден сам по себе, по своей сути. Какие-то парни бегают по полю, получая за это миллионы, а ты тратишь свои силы и здоровье, рискуешь порой, поддерживая их. Это – абсурд. Но и сама жизнь – это абсурд, нелепость. И чтобы легче переносить абсурд нашей жизни, мы должны ее чем-то раскрасить, придать ей видимость смысла. Фанатизм был моей первой попыткой в деле этой раскраски.
Глава 1
Открытие трибуны
В Советском Союзе жить было очень уныло. Скука. Серые улицы, серые лица, серые менты, серый асфальт. Сейчас, когда мне на глаза попадаются фотографии того времени, меня начинает подташнивать от одного воспоминания о той жуткой скуке и серости. И еще цинизм. Поздний совок им был буквально пропитан.
Вступая в комсомол, я, восьмиклассник, иллюзий не испытывал. Мне нужно было стать членом ВЛКСМ, чтобы при распределении из морского училища, куда я собирался поступать, меня направили на суда заграничного, а не каботажного плавания. По этой же причине, будучи курсантом, я занимался комсомольской работой.
Было уныло. А хотелось чего-то такого, интересного, увлекающего, словом – приключений. Вот я и поступил в морское училище. Загранка… Кто жил в совке, тот помнит, что значило тогда это слово: это был пропуск за рубеж, в другой мир, в мир, который жил по другим законам и где продавали модные вещи. Не скрою, я хотел носить модные вещи, а не те, что заполняли прилавки советских универмагов.
Я ожидал, что со мной будут учиться такие же, как я – романтики, искатели приключений, надеялся оказаться в матросском братстве. Меня ждало разочарование. Моими товарищами по учебе оказались обычные гопники из спальных районов. На уроках парни галдели, харкали друг в друга, матерились, выпускали кишечные газы, чтобы потом закричать на всю аудиторию: «Товарищ преподаватель! Разрешите открыть окно, а то этот курсант испортил воздух! Нечем дышать». Оклеветанный курсант, конечно же, начинал протестовать: «Это не я, товарищ преподаватель! Он сам напердел!» Остальные ржали. А я от стыда готов был провалиться на этаж ниже, особенно неудобно было перед молодыми преподавательницами: они, бедняжки, не знали, как себя вести в этой ситуации, краснели, тупили взор. Курсанты понимали только такие средства воспитания, как крик, кулак, строевая подготовка. За три года учебы в мореходке я подружился только с двумя парнями, но наши пути разошлись, как только мы получили дипломы матросов-мотористов.
Летом 1983 года я окончил первый курс мореходки, и родители отправили меня в путешествие по Волге, путевку купила мама в профкоме геологического института, где она работала. В туристической группе было много девушек, а я, по правде говоря, за год учебы в морском училище от девичьего общества отвык. До Куйбышева (ныне – Самара) мы ехали на поезде, и за время дороги я познакомился с ребятами, с которыми мне предстояло провести лето. Все были приблизительно моими ровесниками – старшими школьниками или пэтэушниками. Лишь один парень выбивался из этой компании – модный такой, высокий блондин. Он был в джинсах – в настоящих blue jeans!
– Меня зовут Андрей. Андрей Самусов, – представился он. – Но для друзей я – Сэм.
– Дмитрий Жвания.
– Митя значит…
Сэм оказался студентом третьего курса медицинского института. Как он оказался в школьной туристической группе, я так и не понял. Всем своим видом он показывал, что ему скучно в нашей компании.