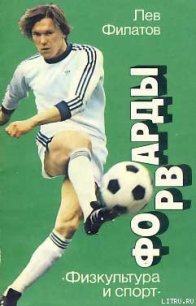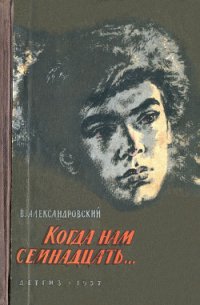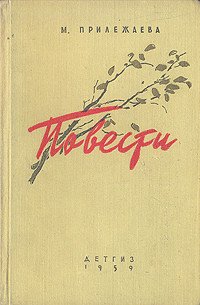Форварды покидают поле - Халемский Наум Абрамович (книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Стою, опустив голову, и носком башмака ковыряю землю. Сейчас посыплются вопросы: кто тебя разукрасил? Где ты разодрал рубашку? Давно ли куришь?
Странно, но отец не стал ни о чем спрашивать, а безнадежно махнул рукой, опалил меня взглядом, полным укоризны, и пошел прочь.
Я бросился за ним.
— Папа, папа, выслушай меня.
Чего тебе?
— Я больше не стану курить.
— Лгунишка всегда щедр на обещания,— резко бросил он, но остановился, прислонившись к широкому стволу каштана.
— Когда это я тебе врал?
— Если в доме заводится грибок, такой дом берут под присмотр. Так и человек. Один раз солгал — полагаться на него нельзя. Говорят, лгун лжет и умирая.
Я протянул отцу пачку «Раскурочных».
— Дело не в одном курении.— Он отстранил мою руку с папиросами. — Ты должен сказать: почему тебе приходится лгать? Может быть, я, твой отец, обманул чем-нибудь твое доверие?
— Нет, что ты! Откуда ты взял такое? — Я посмотрел отцу в глаза. Вероятно, ему было нелегко вести этот разговор, он не мог скрыть волнения. Действительно, отец всегда был со мной добр, я мог делиться с ним самыми сокровенными мыслями. Трудно сказать, почему я скрыл от него историю с тюрьмой. Наверное, именно это вызвало у него такую обиду.
— Я не стану уличать тебя во лжи,— сказал он.— Ты должен сам во всем разобраться. Для меня лгунишка и воришка — одного поля ягоды.
Он вытянул из кармана кисет с табаком и стал свертывать папиросу. Я снова протянул ему пачку своих. Он отмахнулся:
— Сегодня угостишь меня папиросами, а завтра — водкой. Уж лучше я буду всю жизнь курить траву...
Вряд ли отец Юрки Маркелова или Федора Марченко стал бы вести подобный разговор. Дал бы по уху — и делу конец. У моих друзей родители были людьми суровыми и из всех воспитательных мер отдавали предпочтение затрещине. Даже Степкин батя и тот, случалось, отпускал подзатыльники сыну. А ведь Андрей Васильевич партийный... Честно говоря, в эту минуту я завидовал Степке.
А старик продолжал ровным и спокойным голосом:
— Ты предлагаешь мне папиросы. Но я-то знаю, откуда у тебя доходы. Завтра тот же Бур предложит тебе не только отсидеть за него в тюрьме, а и вовсе продать совесть за три серебреника — ты тоже согласишься? Начинается всегда с малого, с пятачка. В пятнадцать лет ты уже успел отказаться от себя, принял чужую фамилию и чужое наказание, и все ради чего? Ради денег. Жажда денег губит человека. Иных она сделала преступниками, привела в тюрьму, опозорила навсегда, превратила в грабителей и убийц. Ты думаешь, мне деньги нужны меньше твоего? Едоков у нас в семье предостаточно. Что ж, раз денег нет, выходит — иди на любую подлость?
Кто же открыл старику мою тайну? Мама, наверное. Мне всегда невыносимо тяжко слушать его упреки.
— Нечестные деньги,—продолжал он,— всегда принуждают человека лгать. А ложь, как известно, тот же лес: чем дальше в лес, тем труднее из него выбраться. Между прочим, лгунишка почти всегда труслив как заяц.
Я посмотрел на отца удивленно. В чем угодно можно меня обвинить, только не в трусости.
— Мне всегда казалось, будто ты смелый. Ошибся, значит.
Я недоуменно пожал плечами.
— Ударить связанного — все равно что побить грудного младенца.
— Ты все видел?
— Не слепой я. На мосту стоял.
— Но ведь Седой Матрос приказал...
— Приказал? — переспросил отец. — На него похоже. А если он прикажет побить беззащитную девчонку?
Я молчал.
— Мне нисколько не жаль Керзона. Трутень он и мерзавец, отлупить его, может, и полезно, но чем же ты лучше этого типа, если сам пользуешься его приемами?
— Он ударил меня, когда я снимал рубашку... Матрос такого не прощает.
Отец перебил меня:
— До чего благороден твой Матрос! Берегись его. Завтра скажет: «Идем на дело».
— Что ты, папа!
— Он вдвое старше тебя. Какой он вам всем товарищ, этот человек? Я стоял на мосту и думал: вот сейчас мой сын не испугается Матроса, а смело бросит ему в лицо: «Нет, не стану я бить лежачего». А ты как слепой котенок... Противно!
Старик махнул рукой и, покачивая баульчиком, пошел своей дорогой.
Во мне боролись и стыд за происшедшее, и облегчение от сознания, что бате уже все известно, и злоба на Керзона, и обида за подбитый глаз и разодранную рубашку.
Я все еще держал в руке пачку «Раскурочных», не зная, куда ее девать. Раз дал отцу слово не курить — делать нечего. Я прошел к старому дубу и спрятал папиросы в дупло. Пригодятся Степке, да и мне... Ведь не так легко сразу, в один день, покончить с этим делом.
ПОСЛАНЕЦ ТАРАКАНА
Появиться в нашем дворе с малиновым фонарем под глазом и с рассеченной губой не больно весело, соседушки почешут языки. И пусть болтают сколько душе угодно. Чего только нс придумают, фантазии у них хватит. Меня мучит другое. Почему все мои попытки облегчить жизнь родных, сделать доброе дело обычно кончаются крахом? Кому по нутру праздная жизнь? Разве лень побудила меня отбывать чужое наказание? Право, легче отбывать принудиловку, чем изо дня в день без толку ходить на биржу труда.
Завтра я снова пойду на Московскую улицу и вместе с другими буду часами торчать в прокуренном зале, тщетно надеясь получить работу. В прошлом году в стране был миллион безработных. Сколько в этом году — газеты не пишут, но в общем немало. А подвернись место хоть чернорабочего — и все сразу бы устроилось.
В такие минуты я чувствую себя безнадежно одиноким и несчастным. Почему мир не устроен по-иному? Людей должно быть не больше, чем требуется рабочих и всяких других трудящихся, я так считаю. Наверное, нельзя отрегулировать такую пропорцию. В общем, на земле царит ужасная неразбериха.
Во дворе у нас, как всегда, шумно. Соседи громко переговариваются, высунувшись из окон. При моем появлении они точно онемели. Их явно занимает истерзанный вид Вовки Радецкого. С напускной развязностью, насвистывая «Кирпичики», прохожу под окнами пани Вербицкой и мимо красавицы Княжны. Она высунулась из окна бесстыдно оголенная, в ночной сорочке, курит папироску и машет мне рукой:
— Зайди покурить, малыш!
Я подавляю желание взглянуть на ее плечи и спешу домой. Кто-то торопливо спускается по лестнице. На втором этаже обнаруживаю, что это Зина, Зина Шестакович из нашей школы, из 7-б класса, председатель учкома, всегда нетерпимо относившаяся к моим проделкам. Зачем она здесь? Жизнь полна неожиданностей... Стараясь держаться независимо, я холодно поздоровался. Зина не обратила никакого внимания на каменное выражение моего лица. Я всегда испытывал непонятно тревожное чувство при встрече с Зиной и робел, как жалкий пацан. Правду сказать, во всех моих проделках в школе она тоже была повинна: мне всегда хотелось привлечь ее внимание своей силой, ловкостью и бесстрашием.
— Вова, милый, как я рада, все-таки дождалась тебя,— щебетала она, словно мы были самыми близкими друзьями.
Где-то в глубине души поднималась радость. Зина, обычно не замечавшая меня, хотя мы учились вместе начиная с третьего класса, Зина, в чьих серых глазах я всегда читал осуждение, вдруг пришла ко мне домой. Что случилось? Она, наверное, заметила мое недоумение и сразу перешла к делу.
— Твоя мама все уже знает,— я почувствовал тепло ее ладони на своем локте,— меня прислал Тимофей Ипполитович.
— Таракан? — удивился я.
Зина скорчила недовольную гримаску, и от этого лицо ее стало еще милее.
— Нехорошо, Вова! Физик не заслужил такого прозвища. Честное ленинское — он тебя так жалеет...
— Жалеет? — вспыхнул я.— Меня нечего жалеть — я не калека...
Теплой и нежной рукой она захватила мои пальцы и примирительно сказала:
— Ты ужасно обидчив. Тимофей Ипполитович, ну пусть Таракан, если тебе уж так хочется, послал меня узнать, работаешь ли ты.
На лестничной площадке царил полумрак, и ее серые глаза приняли зеленоватый оттенок, молочно-белая кожа казалась бархатисто-смуглой, а гладко причесанные светлые волосы отливали медью.