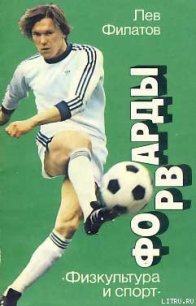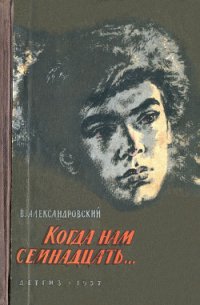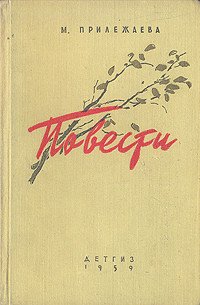Форварды покидают поле - Халемский Наум Абрамович (книги онлайн без регистрации TXT) 📗
— Единственный в своем роде сын знаменитой Черной Маски и таежной охотницы мадам Либредо, гуттаперчевый человек, удостоенный почетного звания человека-лягушки на мировом конкурсе акробатов в Багдаде.
Санька не заставил себя ждать и побежал на руках прямо на толпу. Затем, сделав мост, он просунул голову между рук и показал зрителям язык. Раздался смех, аплодисменты. Я продолжал наигрывать на гитаре все ту же мелодию — «І шумить, і гуде...» Неописуемый восторг вызвало Санькино превращение в лягушку.
— А хай Тобі грець! — восторгается основательно подвыпивший усатый дядька, пятясь перед акробатом. В глазах зрителей — не только удивление, но и страх перед сверхъестественной гибкостью человека.
Вот Санька, лежа на животе, заложил ноги на собственный затылок и покатился колесом, Затем сдедал несколько передних и задних сальто. Пока не стихли аплодисменты, обхожу толпу, держа в руке Степкину кепку.
Нет, вишенских крестьян нельзя заподозрить в расточительности: на собранные медяки вряд ли купишь две булки.
Представляю зрителям нашего солиста, даже не упомянув, в противовес Керзону, о его родстве с Шаляпиным: полуголый Степан в старых штанах никак не сойдет за отпрыска великого артиста. «Хоть бы ноги вымыл, причесался», — думаю с досадой. Бренча на гитаре, я мечтаю поскорей закончить весь этот балаган: тут не разбогатеешь...
Но едва запел Степан, толпа замерла. Даже мальчишки стояли молча, с широко раскрытыми удивленными глазами. Я и сам невольно поддался общему настроению и вместе со всеми поднял голову к небу, когда зазвучало «О боже мій милий, за що ти караєш...», словно господь вот-вот снизойдет на грешную землю и разъяснит, за что Он карает людей. Грудной Степкин голос звучит здесь, у реки, особенно чисто и звонко. Поет он легко и свободно, без всякого напряжения, звуки льются привольно, как воды Днепра. Степкин репертуар разнообразен, но он отлично понимает, какой песней можно растрогать здешнюю публику.
— «Чому я не сокіл, чому не літаю...» —спрашивает Степан, воздев руки к голому небу, и молит дать ему крылья. Будь это в моей власти, клянусь, я исполнил бы его желание: пусть летает, если ему так хочется.
Уголками платков женщины вытирают слезы, одна из них плачет навзрыд. Отец как-то рассказывал об успехе Шаляпина, в концерте которого ему удалось побывать, но я убежден, что Степан обладает не меньшей силой воздействия на сердца и чувства людей. Весь он преображается во время пения: грубые черты лица смягчаются, глаза светятся вдохновенно.
Певца награждают дружными аплодисментами, а усатый дядька целует Степана в обе щеки и дарит ему кисет с самосадом.
Теперь мне не приходится никого упрашивать, каждый сует мне плату за концерт: кто мелкие деньги, кто — яйца, лук или кусок сала.
Степка с достоинством поднимает руку. Мгновенно водворяется тишина.
Ты жива еще, моя старушка,—
начинает Степан «Письмо к матери». Даже избалованная черноярская публика всегда требует его на «бис».
Я вернусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад...
Почему природа не одарила меня таким голосом, не Дала мне такой власти над людьми? Каждому человеку, наверно, хочется славы. Степка рожден для сцены, для искусства, а не для точильного камня. Не может быть, чтобы этот волшебный голос всю жизнь выкрикивал: «Точу ножи, ножницы!..»
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне...
Санька толкнул меня и показал глазами на Степана. Да, наш боцман пел и плакал, слезы катились по его грязным щекам. (Кругом столько воды, целый Днепр, неужели нельзя было ополоснуть морду!) Песня будила в нем воспоминания о матери, рано оставившей его сиротой. Я на миг закрываю глаза и представляю себе не крестьян, а расфранченную публику киевской оперы, восторженных зрителей, бросающих букеты на сцену, где стоит великий артист Степан Головня во фраке и лакированных туфлях.
Мои грезы прерывает бесцеремонный толчок в спину и сердитый шепот:
— Болван, очнись!
Оказывается, уже смолкла последняя Степкина песня, а я все бренчу на гитаре. Смущенно кланяюсь откровенно хохочущей публике и принимаюсь за подготовку последнего номера программы.
Мы со Степаном кладем себе на плечи два трехметровых шеста. Санька упирается ногой чуть пониже моей спины и легко взбирается на плечи. Он умеет делать сальто-мортале с балансиром в руках. Легко и грациозно скользит он по шестам от меня к Степке.
— Аллё! — доносится его возглас. Я ощущаю сильный толчок в плечо. Номер окончен. Восторг зрителей неописуем.
На этом и следовало закончить концерт. Но лавры чужой славы не дают мне покоя, а тут еще Степка шепчет:
— Тебе, Вовка, не стоит выступать.
— Заткнись, Шаляпин!
В моих карманах хранятся четыре теннисных мячика, но я взял еще три яйца, подаренных зрителями, и вышел на манеж. Жонглировать я научился давно, еще в десятилетнем возрасте. «Дождик» считается моим коронным номером. С него и начинаю. Проделываю все с такой быстротой, что публика не может отличить мяча от яиц. Но вдруг пароходный гудок на реке отвлекает мое внимание, ритм движений нарушается, яйца надают мне на голову и разбиваются. Раздается убийственный хохот. Вконец сконфуженный бегу к реке, чтобы умыться.
Укладывая шесты в лодку и поглаживая радостно повизгивающего Трезора, Санька говорит:
— Никогда, Вова, из тебя не выйдет настоящего иллюзиониста. Дальше артиста униформы ты не пойдешь.
— Факт! Под занавес весь концерт испоганил.
— Я не рожден для сцены!
— Л для чего ты рожден?
Вот пристал! На выручку приходит Санька.
— Из пего может выйти только настоящий форвард.
— Какая же это специальность? — возмутился я.— Ноги протянешь, на хлебный квас и то не заработаешь.
— Дело разве только в том, много или мало заработаешь? — пожал плечами Санька. — Главное—любить свое дело, приносить пользу людям.
— Какое мне дело до людей! Им тоже плевать на мою персону.
Точильщик искоса глядит па меня.
— Я знаю, что из тебя выйдет.— По его физиономии никогда нельзя определить, шутит он или говорит серьезно. — Быть тебе, Вовка, поваром. Факт!
— Почему?
— Да ведь для тебя жратва превыше всего.
— Ну и ладно! Буду кормить людей, чем плохо?
— Скучно,— махнул рукой Саня.— Настоящий человек никогда не станет одним делом заниматься. Вот, скажем, Юлий Цезарь был не только полководцем, а и писателем, Ломоносов — поэтом и ученым, Горький — пекарем и писателем, Чехов — врачом и писателем. А ты боишься себя перегрузить. О таких, как ты, правильно говорит Гуттаперчевый Человек: «Они хотят от жизни получить во сто крат больше, чем дать ей».
Носится со своим Гуттаперчевым Человеком, как дурак с писаной торбой! Я уже столько наслышался о нем, будто он Чапаев, или Котовский, или Сергей Лазо. Увидеть бы этого Гуттаперчевого Человека, которому сам Буденный подарил саблю. «Взять от жизни во сто крат больше, чем дать ей...» Но как же все-таки жить? Словно угадывая мои мысли, Санька достает из-под сиденья книгу.
— Вот Овод,— говорит он,— брал от жизни самую малость, а отдал за счастье людей всего себя.
— Овод — герой,— согласился Степан, хотя знал о нем очень мало — ведь только здесь, на бриге «Спартак», из уст Саньки, он впервые услыхал историю Артура Бертона.
Санька перелистал книгу и спросил нас:
— Знаете, что сказал кардинал Монтанелли в своей последней проповеди, когда его сын Артур был расстрелян? «Так вот же вам ваше спасение! Берите его! Я бросаю его вам, как бросают кость своре рычащих собак! Цена вашего пира уплачена за вас. Так ступайте, ешьте до отвала, людоеды, кровопийцы, стервятники, питающиеся мертвечиной! Смотрите: вон течет со ступенек престола горячая, дымящаяся кровь! Она течет из сердца моего сына, и она пролита за вас! Лакайте же ее, валяясь в грязи, и вымажьте ею ваши лица!..»
ПОГОНЯ
В Вишенках, в местной харчевне, мы наелись до отвала. Разморенный едой и зноем, я уснул в лодке и очнулся, когда уже взошла полная луна. Свернувшись клубком, лежал возле меня Трезор. Куда девались Саня и Степа? Где их носит? Медленно бреду по тропинке, пытаясь определить, вечер сейчас или глухая ночь. Друзья точно в воду канули. Пришлось возвратиться к лодке и зажечь сигнальный фонарь. Залаял Трезор — ага, идут! Первым показался Саня.