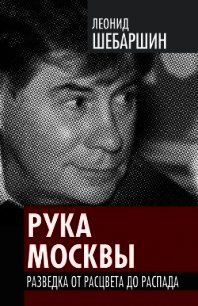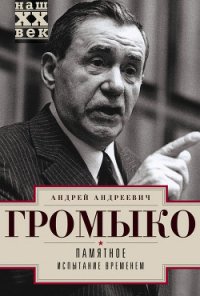Тайны советской кухни - фон Бремзен Анна (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Мама была умнее Орфея и ни разу не оглянулась назад с того момента, как поднялась по трапу в Шереметьево. По супермаркету она гуляла с детским восторгом. «Ши-ри-оз… Рай-се-рони… Вел-ви-та [8]», — она шептала незнакомые названия, словно их сочинил сам Пруст, и любовно щупала и перекладывала продукты в ярких упаковках, в одноразовой таре всевозможных видов.
Тем временем я катила за ней тележку, словно зомби. Я ненавидела магазин Pathmark в Северо-восточной Филадельфии. Для моей собственной мечты о загранице он стал настоящим кладбищем — обдавал могильным холодом и потусторонне светился. Шаркая по проходам, я чувствовала себя погребенной под грудами еды, лишенной теперь социальной власти и магии. В самом деле, кому нужны бананы по одиннадцать центов за пакет, если ими нельзя щегольнуть на проспекте Калинина? Отстояв четырехчасовую очередь, положить в дырчатую авоську и греться в лучах зависти? Что будет, если заменить окутанный героическим флером советский глагол «достать» банальным «купить» — термином, который в СССР редко использовался? Закупка в супермаркете была простым приобретением, лишенным нерва, драмы, ритуала. Где тут место блату, искусному социальному маневрированию, товариществу? Где место зависти и престижу? Успокаивающему запаху очереди — смеси пота и перегара? В Pathmark вообще ничем не пахло.
Прожив в Филадельфии несколько недель, я начала подозревать, что веселые одноразовые коробки и пластиковые контейнеры, громоздящиеся на полках супермаркета, — завеса, скрывающая мрачную правду. Что американская еда — стесняюсь сказать — не так уж вкусна. Невкусным было печенье Pop-Tarts, которое мама подавала холодным и полусырым, потому что никто не сказал ей, что его поджаривают в тостере. И американские сосиски для хотдогов, кислые от нитратов. И уж точно — завернутые в пластик желтокожие куриные кусочки по тридцать девять центов. Теперь я тосковала по синюшным, запеленутым в «Правду» курам, которых Бабалла приносила из ведомственной столовой Госстроя. У тех были живописные когти, острые гребешки, грустные мертвые глаза и недощипанные перья. Бабушка опаляла их массивной зажигалкой, наполняя дом запахом паленой шерсти. Мы ели этих кур раз в месяц, это было дефицитное лакомство.
Когда Еврейская семейная служба перестала платить нам пособие, мама пошла прибирать дома в Филадельфии. Эту работу она объявила «очаровательной». Затем она нашла место в регистратуре больницы, куда приходилось добираться на трех автобусах. Ее смена начиналась в полдень, а домой мама возвращалась после десяти, когда я уже спала. Она тактично не рассказывала мне о том, как под дождем и ветром стояла на продуваемых остановках. Я, в свою очередь, не говорила, каково мне было приходить в пустую безобразную квартиру из жуткой начальной школы имени Луиса Фаррелла. Компанию мне составлял только черно-белый телевизор с зернистым экраном. Когда там появлялась Дина Шор, мне хотелось выть. Она была живым аналогом сэндвича с арахисовым маслом и джемом, который входил в мой бесплатный школьный завтрак беженки. Те же мягкость, фальшивое дружелюбие, белизна и неестественное приторное сочетание сахара и соли.
Поначалу я все время после школы проводила на нашем общем матрасе, уткнувшись в книги из двух ящиков, которые мама выписала почтой из Москвы. Бутылочно-зеленый Чехов, серый Достоевский. Отрываясь от подобранных по цвету собраний сочинений, я садилась за разбитое подержанное пианино, которое мама купила мне на деньги, подаренные американской тетей Кларой, и разбирала «Времена года» Чайковского. Но ноты, лившиеся из-под пальцев, только вгоняли меня в слезы, мучительно напоминая нашу старую арбатскую жизнь. Так я и слонялась в тревожном оцепенении из спальни, мимо телевизора и пианино, до кухни и обратно. И все же даже в минуты самой тяжелой ностальгии я не могла признать, что искренне скучаю по Родине. Казалось, циничные брежневские семидесятые высосали из нас всю искренность. Поэтому я не признавалась в ностальгии.
Родина-Уродина. Алый пламенный миф, обернувшийся иронической насмешкой. Исторически это слово, однокоренное с «родней», было интимным, материнским аналогом слова «отчизна» с его героическим, воинственным ореолом. В советский обиход оно вошло при Сталине, в 1934 году, и с того времени обслуживало официальный советский патриотизм. Во время Второй мировой войны его мобилизовали, еще больше подчеркнув женское начало — так появилась «Родина-мать», которую до последней капли крови защищали сыновья и дочери. Патриотизм охватил всю страну. Но ко времени моего рождения «Родина», как и все «важные» слова, приобрела карикатурный оттенок. Даже при том, что измена Родине была уголовным преступлением.
Если вдуматься, то у страны, покинутой нами навсегда, не было ни одного названия, которое можно было бы произнести с неподдельной ностальгией. Советский Союз? Тосковать по чему бы то ни было советскому считалось политически некорректным, так как само слово «советский» ассоциировалось с неуклюжей тушей правящего режима. Россия? Это слово, в свою очередь, было испорчено сусальным китчем санкционированного национализма: все эти колышущиеся березки и тройки с санями. Так что я прибегла к саркастическому сленгу, на котором место жительства гомо советикус обозначалось как «совок» или «совдеп».
Маму эта языковая классификация не слишком занимала. В конце концов, она прожила большую часть взрослой жизни внутренним эмигрантом, тосковавшим о воображаемом «не здесь», где, как она чувствовала, была ее истинная Родина. Порой она признавалась, что ей не хватает кислых зеленых антоновских яблок — вполне нейтральное набоковское переживание. И лишь однажды, услышав песенку Окуджавы об Арбате, она расплакалась.
Я же наше социалистическое государство и не принимала, и не отвергала. Я бесконечно жонглировала разными точками зрения на него, его ценностями и антиценностями. Играя в эту игру, я и выстроила свою детскую идентичность.
И теперь я оплакивала не только Родину, о которой не упоминали, но и потерю себя.
Взять, к примеру, мое имя.
Анна, Аня, Анька, Анечка, Анюта, Нюра, Нюша. Целый спектр нюансов в одном-единственном имени. А теперь? Я даже Анной уже не была. Я стала Иенна, с филадельфийским акцентом: звучное открытое русское «А» стало плоским и резиновым, как хлеб нашего изгнания Wonder Bread.
Хлеб. Я тосковала по московскому хлебу.
Стоя у холодильника, кладя колбасу Oscar Mayer на белый губчатый ломтик, я мысленно вдыхала соблазнительный дрожжевой запах нашей районной булочной на Тверском бульваре, усаженном деревьями. Там, зажав в маленькой руке гигантскую двузубую вилку, я надавливала на хлеб, проверяя его свежесть. Темные глянцевые буханки лежали на наклонных деревянных полках под лозунгом «Хлеб — наше богатство. Бережно расходуй его!».
Мы приехали в Филадельфию 14 ноября 1974 года. Несколько недель спустя мы заметили в центре города людей в темной форменной одежде. Они пели и звенели колокольчиками, а на их красных ведерках виднелась загадочная надпись — «Армия спасения». От «Jingle Bells» и рождественских гимнов меня по сей день пробирает: это саундтрек к саге об эмигрантской неустроенности.
Я перестала верить в Деда Мороза в шесть лет, еще в Давыдкове. Мы с соседом Кириллом не ложились спать за полночь, дожидаясь, когда придет наш советский Санта в длинном ниспадающем балахоне. У меня была корона из снежинок и атласное платье, которое мама перешила из своего старого. Наконец позвонили в дверь. Сам Дед Мороз, покачиваясь, стоял у нас на пороге — величественный и в стельку пьяный. Затем он рухнул плашмя во все свои метр восемьдесят в крошечную прихожую нашей хрущобы. Утром он все еще лежал там и храпел, по-прежнему в костюме, но уже без бороды: ее он скомкал и сунул под щеку. Пьяный в стельку Дед Мороз — не худший вариант. Самые ужасные экземпляры путали подарки, заранее отданные им родителями — например, дарили вонючие резиновые пляжные мячи ребенку, которому были куплены дорогие гэдээровские игрушки.