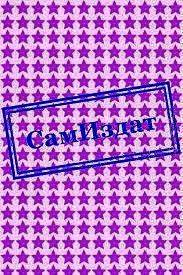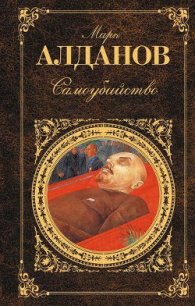Писатель и самоубийство - Акунин Борис (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
Сам Бердяев, идейный борец с суицидом, делал для этого разряда самоубийств исключение: «Когда человек убивает себя, потому что его ждет пытка и он боится совершить предательство, то это в сущности не есть даже самоубийство». Для многих капитуляция перед недугом воспринимается как худшее из предательств — измена самому себе. Лучше уж быстрая смерть от собственной руки.
Истинно верующий христианин скажет: любое страдание — испытание от Бога. Кого Он больше любит, того строже и испытывает; вспомни Иова многострадального: «Тело мое одето червями и пыльными струнами; кожа моя лопается и гноится». Неужто тебе хуже, чем Иову? Страдание не бывает бессмысленным, даже если за ним заведомо последует не облегчение и выздоровление, а смерть.
Но такая вера не для XX века. Если страдание благо, то, стало быть, любое обезболивающее и наркоз — от Сатаны? И как быть, если близкий человек, долго и страшно умирающий от болезни, хочет уйти с достоинством? Слушать его мольбы и шептать молитву? Умирающий от чахотки Ипполит из романа «Идиот» говорит, имея в виду Бога: «Неужели там и в самом деле кто-нибудь обидится тем, что я не захочу подождать двух недель?» Вряд ли кто-нибудь из живущих знает, как ответить на этот вопрос. Разве что вопросом же из Книги Иова: «Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?»
Как бы там ни было, самоубийство, причиной которого стала тяжелая болезнь, отвергать трудно, а осуждать невозможно. Да и суеверие не позволяет.
Современная психиатрия различает несколько стадий душевного состояния человека, который неизлечимо болен: от отрицания идеи о смертельности болезни (denial), через гнев на несправедливость судьбы (anger), торговлю с судьбой (bargaining) и подавленность (depression) к принятию своей участи и проистекающей отсюда умиротворенности (acceptance). Самоубийством чаще всего кончают на предпоследней стадии, когда надежды уже нет, а страх кончины и предсмертных страданий еще не преодолен. Давно известно, что ожидание боли — физической или душевной — во стократ хуже самой боли. И еще на предпоследней, депрессивной стадии умирания больному делается невыносимо страшно оттого, что он перестанет быть собой.
С особенным упорством держится за свое достоинство и свою неповторимую индивидуальность человек творческий. И часто предпочитает уйти сам, если сохранить свое «я» становится невозможно. Это самый распространенный мотив суицида у литераторов.
Вот несколько взятых из разных эпох примеров того, как писатели сочли смерть меньшим злом, чем физические и нравственные страдания, вызываемые болезнью.
В дохристианские времена человеку, решившемуся на самоубийство, не приходилось мучиться из-за греховности своих намерений. Это был вопрос только мужества, только предела личного терпения. Знаменитый александрийский филолог Аристарх Самофракийский (II век до н. э.), который считается родоначальником всех благожелательных литературных критиков (в отличие от Белинского, Писарева и большинства современных российских рецензентов, произошедших от злоязыкого Зоила), в 72 года заболел водянкой, почитавшейся неизлечимым недугом, и уморил себя голодной смертью.
Так же поступил римский писатель, откупщик и эпикуреец Тит Помпоний Аттик (109-32 до н. э.), измученный тяжелой болезнью. Утратив надежду на исцеление, Аттик перестал есть и через четыре дня испустил дух. Пример древних вдохновил исследователя античности, переводчика римской поэзии Перро д'Абланкура (1606–1664) предпочесть голодную смерть терзаниям мочекаменной болезни. Для Франции XVII века столь языческая твердость духа была в диковину и произвела большое впечатление на современников.
Польский франкоязычный писатель Ян Потоцкий (1761–1815), автор знаменитого романа «Рукопись, найденная в Сарагосе», был человеком странным, придерживался неортодоксальных верований и из жизни ушел неординарно. Этот масон и мальтийский рыцарь в последние годы жил отшельником в своем поместье и очень страдал от жестоких мигреней, в конце концов доведших его до самоубийства. Граф, кажется, не верил в Спасителя, однако верил в нечистую силу. Обычной пули ему показалось недостаточно: он застрелился серебряным шариком с крышечки на сахарнице, предварительно освятив его у ксендза — «на случай, если Бог все-таки есть».
Потоцкий по духу и стилю жизни еще принадлежал XVIII столетию, а в новом веке, в связи с кризисом веры и общим ростом гордыни, писательские самоубийства из-за физиологических причин перестали быть чем-то исключительным. Французский писатель Альфонс Рабб (1784–1829) был убежденным апологетом mors voluntaria и умер в полном соответствии со своими воззрениями. В молодости он был очень хорош собой, однако заболел сифилисом, который в ту пору лечить еще не умели, и со временем болезнь его обезобразила. В последние годы жизни Рабб почти не выходил из дому. Один из современников, видевший писателя незадолго до смерти, пишет: «Его зрачки, ноздри, губы были изъедены болезнью; борода выпала, зубы почернели. Сохранились лишь пышные светлые волосы, ниспадающие на плечи, и всего один глаз…» Писатель гнил заживо пять лет, а затем отравился смертельной дозой кокаина.
Страшной была смерть классика австрийской литературы Адальберта Штифтера (1805–1868). Он страдал от цирроза печени, и приступы были так мучительны, что однажды Штифтер не вынес боли и полоснул себя бритвой по горлу. Сделал он это столь неловко, что умер не сразу, а только через два дня.
Дрогнула рука и у португальца Антеро Кентала (1842–1891), страдавшего болезнью позвоночника. Он стрелялся на городской площади, возле монастырской стены, на которой по горькой иронии судьбы было начертано слово «Надежда». Первый выстрел в голову не был смертельным, но у Кентала хватило сил нажать на спусковой крючок еще раз — благо пистолеты в конце XIX века уже были многозарядными.
Совсем по-другому — тихо, без публики и шума ушла из жизни английская писательница Маргарет Барбер (1869–1901), чьи повести и рассказы одно время были очень популярны. Это была добрая, самоотверженная женщина альтруистического склада, который у писателей встречается нечасто. В ранней молодости она работала сестрой милосердия в лондонских трущобах, а после того, как тяжелая, прогрессирующая болезнь позвоночника приковала ее к постели, устроила из своего дома нечто вроде благотворительного центра для нищих и бродяг. Прислугой у Маргарет были дряхлая старуха и умственно отсталая девушка, которым вряд ли дали бы работу в каком-нибудь другом доме. Биографию писательницы можно было бы назвать образцово-христианской — впору канонизировать, если б не предосудительный с церковной точки зрения финал: ослабевшая от приступов боли, почти парализованная, Маргарет перестала принимать пищу. Ее голодовка продолжалась девять дней, и все это время писательница диктовала свою последнюю книгу. Эта книга («Дорожных дел мастер») вышла в свет лишь тридцать лет спустя и выдержала не один десяток изданий.
В нашем столетии водянку, мочекаменную болезнь и сифилис научились лечить, однако осталось достаточно недугов до такой степени мучительных и безнадежных, что им нередко предпочитают быструю смерть.
К числу этих болезней, во-первых, конечно, относится рак.
Аргентинская поэтесса Альфонсина Сторни (1892–1938), в отличие от Маргарет Барбер, была совсем непохожа на святую. Страстная, непримиримая, задиристая, она начинала актрисой бродячего театра, а потом стала писать эротические стихи, принесшие ей шумную, с оттенком скандала славу одной из первых латиноамериканских феминисток. Сторни покончила с собой, когда врачи обнаружили у нее неоперабельную злокачественную опухоль. Поэтесса бросилась в море, оставив коротенькую записку, в которой красными чернилами на голубой бумаге так и было написано: «Я бросилась в море». И больше ни слова.
Американский писатель и общественный деятель Гарри Кодилл (1922–1990) пал жертвой другого страшного недуга — болезни Паркинсона. Когда Кодилл решил застрелиться, тремор был таким сильным, что пришлось держать пистолет обеими руками.