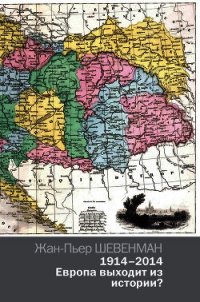Философия свободы. Европа - Берлин Исайя (электронные книги без регистрации TXT) 📗
Но «ключ» все не дается в руки. Мы не можем, как в астрономии или геологии, имея начальные условия, уверенно реконструировать прошлое или просчитать будущее культуры, общества или класса, индивидуума или группы. Исключение составляют случаи, столь редкие и аномальные, имеющие такие пробелы, использующие столько гипотез ad hoc и эпициклов, что проще и плодотворней исследовать их напрямую. Если мы спросим себя, что на самом деле мы можем сказать о данном периоде в культуре или данной модели человеческих действий – войне, революции, возрождении искусства или науки, – исходя из знаний хотя бы о том, что за этим последовало или этому предшествовало, мы, несомненно, должны будем ответить: почти ничего. Ни один историк, как бы ни был он продвинут в социологии или психологии или какой-нибудь метафизической теории, не станет писать историю в такой манере. Попытку Гегеля, решительного в своих антиэмпирических предубеждениях, даже его последователи считали ошибочной; когда Шпенглер убеждал нас, что улицы греческого города были прямыми и пересекались под прямым углом из-за геометрического духа греков, он писал ерунду, и это нетрудно показать. Теоретики истории полагали, несомненно, что снабжают историков крыльями, которые позволяют им покрывать огромные территории намного быстрее, чем пеший собиратель фактов; но, хотя крылья у нас есть уже больше столетия, никто покуда не полетел. Как заметил Анри Пуанкаре в похожем случае, те, кто пытался, пришли к печальному концу. Провалились все попытки заменить машинами медленный ручной труд историков и антиквариев; мы все еще зависим от тех, кто проводит свою жизнь, кропотливо наращивая знания, послушно следуя за свидетельствами, даже если они совсем запутанны и бессвязны. А крылья и механизмы собирают пыль на музейных полках, являя собой пример неоправданных амбиций и праздного воображения.
Великие созидатели систем и выразили отношение людей к миру, и повлияли на то, в каком свете его видят. Метафизические, религиозные, научные системы изменили расстановку акцентов, ощущение того, что важно и значимо, а что можно счесть незначительным, незначимым и отжившим. Они глубоко повлияли на человеческие концепции и категории, люди по-другому видят, чувствуют, понимают мир, смотрят на него через другие очки. Но эти созидатели, вопреки своим заявлениям, не развили науку, не нашли новых фактов, не увеличили суммы знаний, не обнаружили новых событий. Мы верим, что события, личности, вещи принадлежат к тому, к чему принадлежат, мы чувствуем утопию и анахронизм. Но вера в специфические законы истории, из которых можно составить науку, не слишком тверда даже среди меньшинства, которое занимается подобными вопросами (если судить по их поведению как ученых и как людей). Следовательно, вряд ли мы не верим, что можно «вернуться в прошлое» потому, что боимся противоречить какому-нибудь известному закону истории. Мы совсем не уверены в существовании таких законов, но остро ощущаем всю нелепость романтических попыток вернуть былую славу. Значит, одно от другого зависеть не может. Что же тогда составляет наши представления о неотвратимой «поступи истории»? Почему глупо сопротивляться тому, что мы зовем непреодолимым?
Под властью, да и под грузом, верных соображений о пределах человеческой свободы – о барьерах, поставленных почти или совсем не изменяемыми закономерностями в природе, в нашем теле и разуме, – многие мыслители XVIII в., а за ними и просвещенные люди в прошлом столетии и, до некоторой степени, в нашем, считали, что возможна эмпирическая наука истории, которая, быть может, никогда не станет достаточно точной, чтобы предсказывать или точно воссоздавать конкретные ситуации, но, имея дело с большими числами, сопоставляя богатые статистические данные, укажет общее направление, скажем, социального или технического развития и позволит нам отвергнуть некоторые революционные и реформистские планы, ибо те анахроничны и потому утопичны, то есть не соответствуют «объективному» ходу социального развития. Если кто-то в XIX в. всерьез думал, что можно воскресить формы жизни конца XV столетия, никто бы не обсуждал, нужно это или нет. Достаточно было сказать, что Ренессанс, Реформация, индустриальная революция уже состоялись, что фабрики нельзя демонтировать, а массовое производство не вернется к маленьким мастерским, как будто открытия и изобретения не изменили нашу жизнь; что знания и цивилизация, средства производства и распределения не стоят на месте, и, как бы все дальше ни пошло, перенаправить процесс, неподконтрольный, словно законы природы, человеку не под силу. Люди думали по-разному о том, каковы же истинные законы этого процесса, но все были согласны, что они существуют, а потому нелепо изменять их или вести себя так, словно их нет. Такие попытки, сказали бы они, – детское стремление заменить науку волшебной сказкой, в которой возможно все.
Да, великие люди, добившиеся торжества новых научных позиций, – антиклерикальные философы и ученые конца XVII–XVIII столетий, – все сильно упрощали. Они, очевидно, думали, что людей надо исследовать как материальные объекты, а жизнь их и мысль можно вывести из механических законов, управляющих действиями их тел. XIX столетие ощущало, что взгляды эти – слишком грубые; немецкие метафизики считали их «механистичными», марксисты – «вульгарно материалистическими», дарвинисты и позитивисты – не-эволюционными и недостаточно «органичными». Механические законы, возможно, не изменяются на протяжении всей известной истории человечества – химические, физические, биологические, физиологические цепи причин и следствий, функциональные (или статистические) взаимосвязи, в зависимости от того, какова основная категория соответствующей науки. Но в истории были не только краткие повторяющиеся циклы, было и развитие; возникла потребность в принципе, который объяснил бы непрерывное изменение, а не «статичное» различие. Мыслителей XVIII века ослепила механистическая модель Ньютона, которая объясняла царство природы, но не истории. Чего-то не хватало, чтобы открыть и законы истории – ведь, например, биология отличается от химии не просто областью приложения, ее законы принципиально иные; так и история (для Гегеля – эволюция духа, для Сен-Симона или Маркса – развитие социальных отношений, для Шпенглера или Тойнби, последних голосов XIX столетия, – развитие культур, более или менее выделяемых из потока жизни) подчиняется собственным законам. Они учитывают особое поведение наций, классов, социальных групп и людей, к ним принадлежащих, не сводя его и даже не пытаясь свести к поведению предметов в пространстве, что, справедливо или нет, стремились сделать все механистические теории XVIII в.
Понять, как жить и действовать в частной или общественной жизни, значило постичь эти законы и использовать их в своих целях. Гегельянцы считали, что тут нужна своего рода рациональная интуиция; марксисты, контисты и дарвинисты предпочитали ей научные выкладки, Шеллинг и его романтические последователи – «виталистическое» и «мифопоэтическое» прозрение, озарение художника; и так далее. Все эти школы полагали, что можно установить, куда и как движется управляемое законами человеческое общество; что черту, отделяющую науку от утопии, эффективность от неэффективности в любой сфере жизни, можно определить с помощью разума и наблюдения, а там – провести более или менее точно – словом, что есть часы, которые идут по вполне познаваемым правилам, и переставить их назад невозможно.
События XX в. сотрясли эти концепции до самого основания. Новые преступные лидеры – Ленин, Сталин, Гитлер – сломали или исказили до неузнаваемости понятия, идеи и формы жизни, которые считались неотделимыми от конкретной стадии исторической эволюции человечества, «органически» присущими ей. Несомненно, действовали они во имя своих исторических или псевдоисторических теорий, коммунисты – во имя диалектического материализма, Гитлер – во имя расового превосходства; но достигли того, что считалось недостижимым, вопреки прогрессу, нарушая неумолимые законы человеческой истории. Стало ясно, что люди энергичные и безжалостные способны сконцентрировать достаточно власти, чтобы изменить свой мир куда радикальней, чем это полагали возможным. Если кто-нибудь искренне отвергнет представления о морали, политике и законах, казалось бы, столь же устойчивые, столь же присущие их исторической фазе, как и материальные факторы, и если, сверх того, он решится убить миллионы людей, не считаясь с тем, легко ли это и одобрит ли его большинство современников, то он осуществит перемены бо́льшие, чем допускает «закон». Люди и их учреждения оказались гораздо более податливыми, гораздо менее стойкими, законы гораздо более гибкими, чем нас учили думать. Теперь заговорили о намеренном возвращении к варварству, а это, согласно недавним теориям, не только дурно, но и практически невозможно.