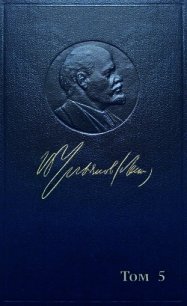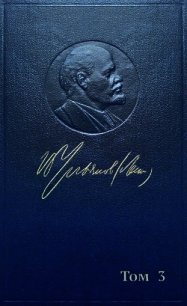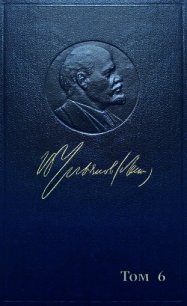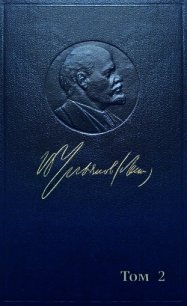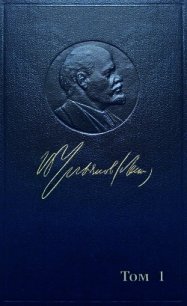Полное собрание сочинений. Том 4. 1898 — апрель 1901 - Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (хороший книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Мы вышли вместе и пошли предупреждать В. И. Надо было ждать, что она примет известие о «разрыве» (ведь дело принимало именно вид разрыва) особенно тяжело. Я боюсь даже – говорил накануне Арсеньев – совершенно серьезно боюсь, что она покончит с собой…
Никогда не забуду я того настроения духа, с которым выходили мы втроем: «мы точно за покойником идем», сказал я про себя. И действительно, мы шли, как за покойником, молча, опуская глаза, подавленные до последней степени нелепостью, дикостью, бессмысленностью утраты. Точно проклятье какое-то! Все налаживалось к лучшему – налаживалось после таких долгих невзгод и неудач, – и вдруг налетел вихрь – и конец, и все опять рушится. Просто как-то не верилось самому себе [точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека] – неужели это я, ярый поклонник Плеханова, говорю о нем теперь с такой злобой и иду, с сжатыми губами и с чертовским холодом на душе, говорить ему холодные и резкие вещи, объявлять ему почти что о «разрыве отношений»? Неужели это не дурной сон, а действительность?
Это впечатление не проходило и во время разговора с В. И. Она не проявляла особенно резко возбуждения, но видно было, что угнетена была страшно, и упрашивала, молила почти что, нельзя ли нам все же отказаться от нашего решения, нельзя ли попробовать, может быть, на деле не так страшно, за работой наладятся отношения, за работой не так видны будут отталкивающие черты его характера… Это было до последней степени тяжело – слушать эти искренние просьбы человека, слабого пред Плехановым, но человека безусловно искреннего и страстно преданного делу, человека, с «героизмом раба» (выражение Арсеньева) несущего ярмо плехановщины. До такой степени тяжело было, что ей-богу временами мне казалось, что я расплачусь… Когда идешь за покойником, – расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния…
Ушли мы от П. Б. и В. И. Ушли, пообедали, отправили в Германию письма, что мы туда едем, чтобы машину приостановили, даже телеграмму об этом отправили (еще до разговора с Плехановым!!), и ни у одного из нас не шевельнулось сомнение в нужности того, что мы делали.
После обеда идем опять в назначенный час к П. Б. и В. П., у коих уже должен был быть Плеханов. Подходим, они все трое выходят. Здороваемся молча – впрочем Плеханов старается вести сторонний разговор (мы просили П. Б. и В. И. предупредить его, так что он уже все знает) – возвращаемся в комнату и садимся. Арсеньев начинает говорить – сдержанно, сухо и кратко, что мы отчаялись в возможности вести дело при таких отношениях, какие определились вчера, что решили уехать в Россию посоветоваться с тамошними товарищами, ибо на себя уже не берем решения, что от журнала приходится пока отказаться. Плеханов очень спокоен, сдержан, очевидно, вполне и безусловно владеет собой, ни следа нервности Павла Борисовича или Веры Ивановны [бывал и не в таких передрягах! думаем мы со злостью, глядя на него!]. Он допрашивает, в чем же собственно дело. «Мы находимся в атмосфере ультиматумов», – говорит Арсеньев и развивает несколько эту мысль. «Что же вы боялись, что ли, что я после первого номера стачку вам устрою перед вторым?» – спрашивает Плеханов, наседая на нас. Он думал, что мы этого не решимся сказать. Но я тоже холодно и спокойно отвечаю: «отличается ли это от того, что сказал А. Н.? Ведь он это самое и сказал». Плеханова, видимо, немного коробит. Он не ожидал такого тона, такой сухости и прямоты обвинений. – «Ну, решили ехать, так что ж тут толковать, – говорит он, – мне тут нечего сказать, мое положение очень странное: у вас все впечатления да впечатления, больше ничего: получились у вас такие впечатления, что я дурной человек. Ну, что же я могу с этим поделать?» – Наша вина может быть в том, – говорю я, желая отвести беседу от этой «невозможной» темы, – что мы чересчур размахнулись, не разведав брода. – «Нет, уж если говорить откровенно, – отвечает Плеханов, – ваша вина в том, что вы (может быть в этом сказалась и нервность Арсеньева) придали чрезмерное значение таким впечатлениям, которым придавать значение вовсе не следовало». Мы молчим и затем говорим, что вот-де брошюрами можно пока ограничиться. Плеханов сердится: «я о брошюрах не думал и не думаю. На меня не рассчитывайте. Если вы уезжаете, то я ведь сидеть сложа руки не стану и могу вступить до вашего возвращения в иное предприятие».
Ничто так не уронило Плеханова в моих глазах, как это его заявление, когда я вспоминал его потом и обдумывал его всесторонне. Это была такая грубая угроза, так плохо рассчитанное запугиванье, что оно могло только «доконать». Плеханова, обнаружив его «политику» по отношению к нам: достаточно-де будет их хорошенько припугнуть…
Но на угрозу мы не обратили ни малейшего внимания. Я только сжал молча губы: хорошо, мол, ты так – ну а la guerre comme а la guerre [146], но дурак же ты, если не видишь, что мы теперь уже не те, что мы за одну ночь совсем переродились.
И вот, увидав, что угроза не действует, Плеханов пробует другой маневр. Как же не назвать в самом деле маневром, когда он стал через несколько минут, тут же, говорить о том, что разрыв с нами равносилен для него полному отказу от политической деятельности, что он отказывается от нее и уйдет в научную, чисто научную литературу, ибо если-де он уж с нами не может работать, то, значит, ни с кем не может… Не действует запугивание, так, может быть, поможет лесть!.. Но после запугивания это могло произвести только отталкивающее впечатление… Разговор был короткий, дело не клеилось; Плеханов перевел, видя это, беседу на жестокость русских в Китае, но говорил почти что он один, и мы вскоре разошлись.
Беседа с П. Б. и В. П., после ухода Плеханова, не представляла уже из себя ничего интересного и существенного: П. Б. извивался, стараясь доказать нам, что Плеханов тоже убит, что теперь на нашей душе грех будет, если мы так уедем, и пр. и пр. В. И. в интимной беседе с Арсеньевым признавалась, что «Жорж» всегда был такой, призналась в своем «героизме раба», призналась, что «это для него урок будет», если мы уедем.
Остаток вечера провели пусто, тяжело.
На другой день, вторник 28 августа н. ст., надо уезжать в Женеву и оттуда в Германию. Рано утром будит меня (обыкновенно поздно встающий) Арсеньев. Я удивляюсь: он говорит, что спал плохо и что придумал последнюю возможную комбинацию, чтобы хоть кое-как наладить дело, чтобы из-за порчи личных отношений не дать погибнуть серьезному партийному предприятию. Издадим сборник, – благо материал уже намечен, связи с типографией налажены. Издадим сборник пока при теперешних неопределенных редакторских отношениях, а там увидим: от сборника одинаково легок переход и к журналу и к брошюрам. Если же Плеханов заупрямится, – тогда черт с ним, мы будем знать, что сделали все, что могли… Решено.
Идем сообщать Павлу Борисовичу и Вере Ивановне и встречаем их: они шли к нам. Они, конечно, охотно соглашаются, и П. Б. берет на себя поручение переговорить с Плехановым и побудить его согласиться.
Приезжаем в Женеву и ведем последнюю беседу с Плехановым. Он берет топ такой, будто вышло лишь печальное недоразумение на почве нервности: участливо спрашивает Арсеньева о его здоровье и почти обнимает его – тот чуть не отскакивает. Плеханов соглашается на сборник: мы говорим, что по вопросу об организации редакторского дела возможны три комбинации (1. мы редакторы, он – сотрудник; 2. мы все соредакторы; 3. он – редактор, мы – сотрудники), что мы обсудим в России все эти три комбинации, выработаем проект и привезем сюда. Плеханов заявляет, что он решительно отказывается от 3-ей комбинации, решительно настаивает на совершенном исключении этой комбинации, на первые же обе комбинации соглашается. Так и порешили: пока, впредь до представления нами проекта нового редакторского режима, оставляем старый порядок (соредакторы все шесть, причем 2 голоса у Плеханова).