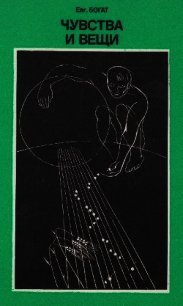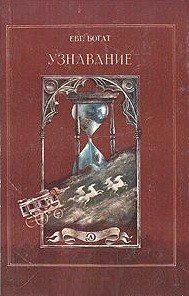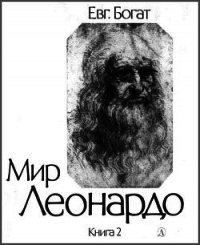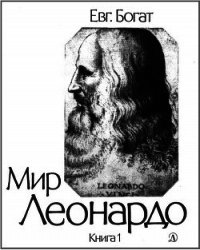Вечный человек - Богат Евгений Михайлович (книги полностью TXT) 📗
Поскольку история человечества, бесспорно, не на стороне Ницше, апология закрытого забрала испытывает желание найти ему союзницу более надежную: науку. Разве открытия последних лет не подтверждают то, о чем писал когда-то «отшельник из Сильс-Марии»? Он отвергал механистическое миропонимание, и оказалось, что мы живем действительно в вероятностном мире. Он говорил о катастрофичности бытия, но если космос, «эта дьявольская кузница», как утверждает, сегодня и наука, катастрофичен, то, видимо, катастрофичность — явление космическое, непреодолимое. (При этом почему-то не рождается вопроса: а может быть, высокая миссия человечества — создать в «катастрофическом космосе» некатастрофический мир?!)
Но чтобы вызвать живую симпатию, подобной аргументации маловато. И читателю как бы невзначай сообщают о его одиночестве, «обаянии личности» и опять о «нежном, добром сердце». С последним можно, пожалуй, согласиться. Я думаю даже, что его сердце было чересчур мягким для любви к человеку — мягкие сердца быстро устают. Но можно ли поверить тому, что сегодняшний Запад сентиментально растроган интеллектуальными и этическими добродетелями и добивается возвращения Ницше из бескорыстного поклонения его интуиции и его сердцу? Нет, он нужен индустриальному миру, технической цивилизации отнюдь не потому, что его мышление в чем-то опередило развитие науки, а душа была ранимой и чистой, он нужен им потому, что его философия сообщает этому миру и этой цивилизации ранг высокой реальности. Им не может не импонировать одно из основных его положений — ценности «действительной жизни» выше ценностей нравственных, духовных, религиозных; мир, поставивший технику выше духа, испытывает насущную потребность в подобной философии. Мыслитель, утверждавший: моральные ценности — мнимые ценности в сопоставлении с физиологическими, нужен цивилизации, чья «физиология» — мощь техники. (И так же, как Ницше не понимал: если на земле восторжествуют «физиологические ценности», жизнь кончится даже физиологически, они не хотят думать о том, что техника погибнет при окончательном торжестве техники.) И разве доктрина «воли к власти» не дарует оправдания воли к техническому могуществу?
«Аристократический радикализм» Ницше совпадает с современным «технократическим радикализмом».
«Сумма технологии», нарастая, вытесняя человеческое, делает жизнь иррациональной. Если понимать дионисийскую стихию как «оргию безличного», делается понятным, что и поклонение Ницше жестокому богу вина и веселья не может не импонировать современному Западу — с той лишь разницей, что сегодня в отличие от античного мира из этой стихии рождается не трагедия, а трагикомедия и фарс.
Никогда еще буйство Диониса не было более некрасивым! Видимо, потому, что в докибернетические века не могло быть и речи о Дионисе-роботе.
Техника повышает чувство могущества, поэтому, согласно шкале ценностей Ницше, она должна быть объявлена реальностью высшего ранга. Когда «отшельник из Сильс-Марии» воскликнул: «Что есть истина? — И тут же ответил: — Та гипотеза, которая сопровождается удовольствием; наименьшая трата духовной энергии…» — он через десятилетия послал технократам формулу-подарок. Ницше утверждал: «Отрывая известный идеал от действительности, мы тем самым унижаем действительность, делаем ее беднее содержанием, клевещем на нее». Поскольку действительность индустриального мира безболезненно обходится без «идеалов», возникает современный вопрос: нужны ли они вообще?
Мыслящих же более широко технократов утешает афоризм Ницше: «Истина есть тот род заблуждения, без которого определенный род живых существ не мог бы жить; ценность для жизни является последним основанием». «Определенный род живых существ» — в этой формуле — человечество; истина, она же заблуждение, — техническая цивилизация.
Ценность для жизни? Ницше кончил тем, что объявил: «Мир не имеет ценности». И тем самым, перешагнув и через трагическую и через трагикомическую стадию развития Запада, утвердил фарс в качестве наиболее адекватного его завтрашней действительности жанра. Любопытно, что мыслитель, чьей первой работой была апология трагедии, в последней, желая того или нет, оправдал фарс. Но этого, разумеется, «технократический радикализм» в Ницше не замечает. Как и любая аристократическая мораль, делящая человечество на высших и низших, господ и рабов, повелителей и стадо, «творческих» и «нетворческих», она хочет казаться максимально серьезной и даже, если возможно, чуть-чуть возвышенной… Иначе она не в состоянии будет осуществлять заложенных в ней тенденций к господству. А тенденции эти настолько фантастичны, что выражены сегодня открыто лишь в фантастических романах — речь идет о господстве даже не мировом, а космическом…
Но вернемся к бедному, нежному сердцу Ницше. Однажды, гуляя в сопровождении молодого человека, занятого тогда изданием его сочинений (гулять одному ему уже не разрешали), он увидел девочку на дороге, подошел к ней, поднял упавшие ей на лоб волосы, посмотрел с улыбкой в ее лицо и воскликнул: «Не правда ли, вот олицетворение невинности?» Потом побрел к лечебнице — медленно умирать.
А девочка пошла дальше. В XX век. Она шла в сандалиях, потом босиком, когда сандалии остались в Освенциме с обувью тысяч мальчиков и девочек, потом опять в туфельках, легких, веселых, доверчиво постукивающих по старому камню дороги.
Мальчики и девочки

«О, что было бы с миром, если бы не рождались в нем дети!..» — патетически воскликнул кто-то из философов. Возможно, был он в ту минуту растроган, наблюдая за игрой детей вокруг рождественской елки или в Летнем саду. В этой растроганности ощущается атмосфера XIX века.
Подобные мысли выходят из сердца, несомненно, делая ему честь, и, однако, после них мир не меняется к лучшему: они утешают, не помогая перестраивать его. Надо полагать, что не было века, когда бы люди не задавали себе и окружающим иного вопроса: что будет с детьми, которые рождаются в этом мире?! Он менее возвышен, но побуждает к действию.
В середине II века до нашей эры восстания рабов потрясали Сицилию. У рабов были дети — маленькие рабы. Как-то раз — накануне восстания — один добрый человек в городе Акраганте, по-видимому, поклонник философии, позвал к себе в гости жестокого рабовладельца и, усадив рядом с ним за стол детей-невольников, угощал их орехами и винными ягодами. История, часто равнодушная к добрым делам, сохранила имя гуманного акрагантинца — Полиант. — Лично я сомневаюсь в том, чтобы после этой трапезы рабовладелец стал лучше относиться к маленьким рабам — и собственным и чужим. Вероятно обратное: если раньше он унижал и истязал их с бессознательной жестокостью, то после умилительного угощения в доме Полианта в его отношении к ним появился оттенок мести за перенесенное унижение.
В первый же день восстания этот рабовладелец и его жена были убиты. У них была дочь; ее судьба замечательна. Никто из восставших не поднял на нее руку. Надежным людям поручили переправить ее через горы к родственникам. Она, единственная в этой семье, была добра к рабам, и они не могли не отплатить ей тем же. И если мы не видим в этом ничего удивительного, то лишь потому, что более двадцати веков борьбы человечества за лучший мир изменили наши чувства и наше сознание — подлинно человечное начинает казаться само собой разумеющимся. Чтобы почувствовать удивление, надо если не ощутить, то вообразить атмосферу восстания.
Жизнь раба была ужасна. В сущности, это медленное, мучительное умирание нельзя назвать жизнью. Когда одичавшие в нескончаемых муках люди с дикой, отчаянной решимостью шли на мучителей, можно ли было ожидать от них доброты?! А оказалось, им чужда месть. Ни один волос не упадет с головы дочери того, кто был беспощаден к их детям, если она сама ни в чем не виновна. А если она была и добра к ним, ей сумеют, несмотря ни на что, воздать тем же. Почему-то хочется думать, что те, кто посреди ужасов восстания окружил заботой эту девочку, испытывал и особую радость. Это была радость рождения новой великой морали.