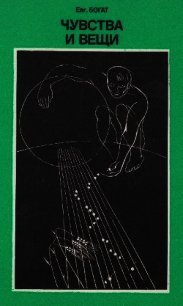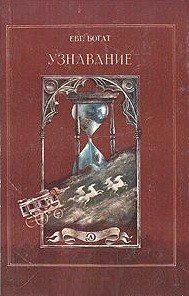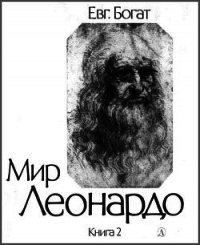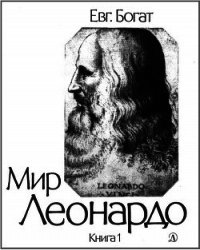Вечный человек - Богат Евгений Михайлович (книги полностью TXT) 📗
Беспомощный и тоскующий художник выявил себя в Ницше, разумеется, и в чем-то несравненно более существенном, чем ритм песнопений возвышенно размышляющего в горах мудреца. Не сумев воплотиться в художественные формы, он с нерастраченными силами, уверенно и, пожалуй, высокомерно вошел в философию. И это оказалось для Ницше-мыслителя на редкость кстати, ибо человеку, утратившему реальность, не сумевшему ее найти, остается одно: поставить на ее место иллюзию. И если человек этот философ, то и иллюзия должна быть особой — мировоззренческой, что ли. Подобную иллюзию Ницше и строил с каждым годом все темпераментнее; он назвал ее кощунственно — жизнь; он отомстил утраченной реальности, дав ее имя собственной иллюзии.
Жизнь в понимании Ницше ничуть не похожа на жизнь в понимании Стендаля или Достоевского, зато у нее немало общего с жизнью в понимании Уайльда или Гамсуна. Это чисто эстетическая ценность, величина которой измеряется некой абстрактной красотой, лишенной социального или этического содержания, красотой без добра и любви к человеку, и не менее абстрактной силой. А поскольку в нашем подлунном мире ничейной красоты не бывает, то красота без добра делается, да извинят мне читатели печальный парадокс, красотой зла. А сила? Чем она больше, тем больше должна быть в ней и человечность, чтобы она из доброй не стала злою. Мощь (даже творческая!), лишенная человечности, — как любовь, лишенная жалости, — подвержена «демоническим уклонам», то есть делается разрушительной (в чем мы неоднократно убеждались, наблюдая и непосредственно ощущая научно-техническую мощь современной действительности). Для Ницше жизнь — это именно красота и сила сами по себе, вне «убивающей их морали». «Моральный человек, — не устает повторять он, — более низкий и более слабый вид сравнительно с безнравственным», «я ценю человека по степени мощи и полноты его воли», «я ценю силу известной воли по тому, какую меру сопротивления, боли, мучений она может перенести и обратить себе на пользу». Ницше пытался убедить себя и читателей, что богатство личности, переливающаяся через край полнота внутренней жизни несовместимы с моралью.
Жизнь как чисто эстетическая ценность — исполинский, наподобие античного, театр, в котором даже с самого дальнего ряда виден отлично Александр Македонский, но легко не заметить Сократа. Чтобы выступать в этом театре, нужны котурны. А афинский мудрец ходил босиком.
Ницше мечтал даже о Цезаре Борджиа. Ему казалось, что, если бы тот стал римским папой, европейская культура не одряхлела бы и не выродилась. Возможно, что Цезарь Борджиа, убивавший людей направо и налево — на улицах, в постелях, на балах и дорогах, соблазнивший родную сестру и весело подмешивавший яд в кушанья, которыми потчевал гостей, возможно, что это действительно обладавшее сильным характером «чудовище безнравственности» было для Ницше «иронической антитезой» современному жалкому, перепуганному насмерть немецкому мещанину. Ницше нравилось раздражать, эпатировать, повергать в ужас «ироническими антитезами». Но, даже понимая это, мы не можем быть равнодушными к его выбору: увлечение Цезарем Борджиа, хотя бы и полемическое, говорит нам о невосполнимых этических потерях, неизбежных при чисто эстетическом восприятии действительности.
Думаю, что Ницше, человек, весьма чуткий к собственному духовному миру, ощущал сам невосполнимые утраты. Сознание их бесило его, заставляло назло себе и окружавшим доходить в «иронических антитезах» до абсурда. В этом есть что-то от душевных надрывов героев Достоевского. Но разве и сам он, повторяю, не кажется рожденным стихией одного из великих романов Федора Михайловича?..
Да, ощущение жизни как могучей иллюзии разрушает личность. Ряд исследователей Ницше утверждают, что он в течение десятилетий не менялся. В чем-то весьма существенном он, разумеется, остался верен себе, его «аристократический радикализм» (формула датского философа Георга Брандеса) достаточно полно обнаружился в молодости. Но личность Ницше, подобно личности Ивана Карамазова и уже непосредственно вылепленного с него Андриана Леверкюна, деградировала. Когда 40-летний Ницше, узнав о землетрясении на Яве, воскликнул с энтузиазмом: «В один миг уничтожено 200 тысяч человек! Это великолепно! Вот конец, ожидающий человечество…» — он не только отрекся от Монтеня, Гёте, Стендаля и Достоевского, он, по существу, шагнул в область безумия… Он показал, что ему удалось в себе самом «переболеть человека». Но, «переболев это», остается сойти с ума.
Иван Карамазов разбивается о мысль: «Если нет бессмертия, то нет и добродетели». Для Ницше тоже добродетель не обладала самоценностью. Она должна была соседствовать с чем-то более великим: бессмертием, красотой, мощью. Тогда бы, возможно, он ее не отверг. Но когда «сила и красота» торжествуют в мире победу (Александр Македонский, Наполеон — любимые герои Ницше), нужна ли им добродетель? Возможно, она оказалась бы лишней и рядом с бессмертием… Добродетель нужна именно потому, что в мире бессмертия нет; ее бесконечная ценность именно в том, что она защищает детски беззащитную жизнь.
Человек имеет возможность рассуждать, хорошо или дурно сострадание и доброта, именно потому, что они реально существуют: не было бы их — не было и человека. Можно не сомневаться, что «жестокие ветви эволюции» вымирали на заре рождения человека. Сохранились лишь истинно человеческие, к которым относимся и мы сами, что, разумеется, не означает: в мире мало зла и с ним не стоит бороться.
Видимо, одинаково опасны и иллюзия: мир перенасыщен добротой, — и убеждение: он полон зла. Когда читаешь Ницше и его самых ранних последователей, кажется иногда, что перед тобой избалованные, объевшиеся пирожными дети, которые, надув губы, с отвращением отталкивают наскучившие кондитерские изделия. XIX век на излете — поразительный и единственный в истории человечества момент, когда ряду мыслителей померещилось, что мир чересчур добр. Читая Ницше, можно подумать, что сострадание стало мировым бедствием и настолько истомило, измаяло человечество, что, если не убедить людей в его ужасных последствиях, они завтра от сострадания умрут. «…Будем наслаждаться несчастьями людей вместо того, чтобы горевать над ними», — восклицает он и через минуту сокрушается: «В современном человечестве гуманность достигла огромных размеров».
Почувствовав усталость от человека, Фридрих Ницше и его последователи ощутили усталость и от «человеческого» — доброты, сострадания, жалости. Они решили, что их культура быстро и тяжко стареет не потому, что само общество окончило путь восхождения, а потому, что ее обессиливают старые, черт бы их побрал, добродетели! И они ужаснулись мысли, что в XX веке будет еще больше в мире сострадания и жалости. Верно чувствуя нарастающий кризис буржуазного гуманизма, они не понимали двух вещей: того, что сама их иллюзия родилась из бессмертных достижений этого гуманизма, и того, что окончательная катастрофа его будет торжеством не «красоты», «силы», «трагического человека, новой трагической эры», а совершенно бесчеловечной, методически жестокой машины, и над обломками старого гуманизма поднимется не Зигфрид, даже не Наполеон, а Эйхман, чиновник-палач. Подобная, что и говорить, малоэстетичная перспектива была наглухо закрыта от их мышления. Но, увы, она оказалась единственно реальной, — и вот, если в конце XIX века отдельные философы могли разрешить себе роскошь поставить под сомнение человечность, то во второй половине XX мы этого разрешить себе не можем, как не может себе разрешить вернувшийся с войны солдат наступить сапогом на корку хлеба… Есть вещи, которые наш век надолго лишил обаяния: жестокость, варварство, безумие. В более ранних возрастах человечества были возможны эпохи, когда это обладало некой романтической окраской. После наступления эры технической цивилизации автоматизм лишил их даже отдаленного подобия человечности. Осталось загадкой, что такое «автомат добра», но действие «автомата зла» испытали на себе миллионы [6].