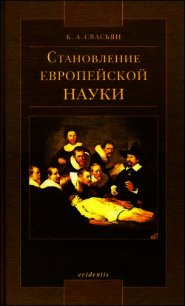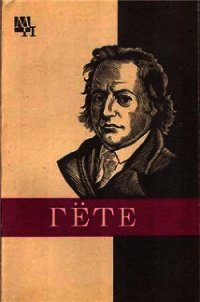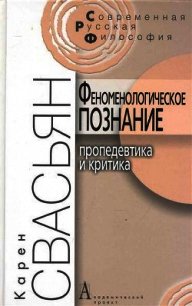…Но еще ночь - Свасьян Карен Араевич (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
15.
Теперь это был — студент , по сути, всё тот же рабочий , который, не сумев удержаться в пролетарской аватаре, взял реванш в студенческой. Было бы шуткой и неуважением к истории принять этих босяков, культивирующих свальный грех и антисанитарию, за действительных студентов, и если их всё-таки принимают за таковых, то, наверное, оттого, что не уважать историю легче, чем уважать её. Со школярской братией старых славных университетов они имели не больше общего, чем иной опустившийся отпрыск знатного рода со своими предками. Меньше всего было им до учебы. Когда философ Кожев на вопрос студенческих вожаков в Берлине, что же им делать, ответил: идти домой и читать Платона , это привело их в такое же замешательство, в каком, наверное, оказались бы платоники, призови их вдруг кто-нибудь крушить витрины и швырять камни в полицейских. Какая, к чёрту, учеба, когда самое время изменять мир! Причем в масштабах, о которых не догадывались даже изобретательнейшие новаторы прошлого. И снова это был марксизм, непотопляемый оборотень во всеоружии диалектики, который, после того как его предали прежние креатуры, нашел-таки себе нового и победного носителя. Студент , которого когда-то за буржуазность ставил к стенке рабочий , сам прижал теперь к стенке обуржуазенного рабочего. Механизмом провокации послужил ловко инструментализированный конфликт поколений ; отцам, по первому кругу, вменяли в вину сытость, благополучие и моральный индифферентизм, и отцы, пережившие войну, молча и виновато (со всей грамотностью читавших своего Фрейда бюргеров) сносили упреки сытых и благополучных детей, выехавших на всем готовом и даже не заметивших «чуда немецкой марки» . Наверное, это была одна из самых ранних проб на новую мораль: душевная тупость и подлость в масштабах целого поколения, гораздого лечь костьми за Африку и Вьетнам, но плюющего на собственных героических отцов. Отцов впору было нести на руках и ставить им памятники при жизни; эти отцы, а в большей степени, может, и матери (Trümmerfrauen, женщины развалин, как называли их, вручную очистивших разбомбленную страну от более чем 400 миллионов кубических метров строительного мусора), и были творцами потрясшего мир чуда, когда жилой фонд в одной и той же области уже в 1954 году, то есть на девятый послевоенный год, достиг уровня 1938 года (вопреки экспертам, рассчитывавшим, как минимум, на 40 или 50 лет), и когда к 1970 году в стране практически не осталось безработных. Они-то и победили войну, после того как её проиграли, и попрекать их благополучием мог только моральный люмпен, сидящий на игле сытого профессорского марксизма и презирающий настоящий труд. Упрек по второму кругу был ударом под дых: речь шла уже не о сытости, а о соучастии в фашизме. Всех без исключения , имевших несчастье достичь совершеннолетия между 1933–1945. Когда гарвардский историк Гольдхаген в 1996 году издал книгу «Hitler’s Willing Executioners» [13], в которой утверждал, что немец — это синоним убийцы, он получил за нее от немцев же престижный приз демократии с laudatio, произнесенной философом Хабермасом! Немецкая шизофрения, достигшая пика в наше время, — оригинальнейшее студенческое изобретение поздних шестидесятых годов, и канцлер Коль знал, что говорил, когда благодарил судьбу за счастье не принадлежать к поколению между двенадцатью чумными годами, о которых сегодня оттого и невозможно непредвзято и сколько-нибудь углубленно говорить, что в них, по-видимому, и таится действительная разгадка нашего настоящего и (если таковое вообще еще есть) будущего.
16.
Что в этом типе, необыкновенно быстро исчезнувшем со сцены, прежде всего бросается в глаза, так это его, говоря словами Ницше, «оскорбительная ясность» , в особенности там, где он старается казаться «интересным» и «изобретательным» . По простоте и незатейливости психических движений он даже превзошел рабо ч его , хотя и умел скрывать это за камуфляжем прочитанных книг, и, стремясь, как выдуманный персонаж, уподобиться своим авторам, он лишь повторил смешную участь обывателя, который, по слову Рикарды [14], изображал из себя «белокурую бестию» , хотя бестиальности в нем не хватало и на морскую свинку. «Бестия» тем временем, скомпрометировав себя в фашизме, опустилась до «степных волков» , так что несостоявшейся свинке предстояло в очередной метаморфозе приноравливаться к новым идентичностям. То, что тип был предвиден и описан мыслителями самого противоположного, даже враждебного толка, от Ницше до Джона Стюарта Милля, причем именно как заразный и опасный, не просто не смущало его, а напротив, вполне даже устраивало; не случайно, что его гуру, во Франции и Германии, умудрялись даже извлекать из этого выгоду, афишируя себя как наследников и продолжателей. Решающим было другое. Если марксизм мог быть честным, то, по-видимому, не иначе, как сохраняя свою вульгарность; становясь гибким и умным, умея, где надо, подлаживаться под Ницше, Хайдеггера, Кафку, Гуссерля, даже Арто и Сада, он приобретал колоссальную притягательность, на которую западная интеллектуальная мошкара еще с ранних 30-х годов слеталась, как на пламя, хотя терял при этом всякую профилированность и вменяемость. Шестидесятник Фуко, каталогизирующий всемирную историю извращений, мог бы с равным успехом причислить сюда и собственный марксизм, который он с бесподобным вкусом и шармом вмарал в технику «Генеалогии морали». Самое забавное то, что, говоря о влиянии марксизма во Франции, забывают почему-то о влиянии Франции на марксизм. С марксизмом, осевшим в парижских кафе, случилась осечка: он вдруг обнаружил в себе складку и психоделически перенесся в барочное время, сочетая изощренность мыслительного рисунка с грубостью граффити. Оставалось справиться с идеологией, без которой он переставал быть собой, а с которой был не тем, чем хотел быть. Он и справился с ней, отказываясь от нее до тех пор, пока не вобрал её целиком в отказ и не отождествил с отказом. Отказ от идеологии, обернувшийся идеологией отказа, лишь повторял трюк классика с философией нищеты и нищетой философии. Более грубого решения и нельзя было придумать, но, очевидно, старое сталинское правило: «ничего, слопают» , сработало и здесь. Студент 60-х гг. отказывался решительно от всего, кроме самого отказа, и императивно требовал упразднения всех императивов. Его бог откликавшийся на кличку: The Great Refusal , по-русски: посвящение в бродяжничество , тем категоричнее утверждал себя, чем энергичнее отрицал всё другое, только это было уже не прежнее неприкаянное бродяжничество потерянных и одиноких, а новое, коммунальное и, что важнее всего, генерируемое и управляемое : царство студенческого отребья, упраздняющего всё, что в тысячелетиях состоялось и отстоялось как культура и дом, мораль и гигиена, чувство благодарности и чести, стыда и долга, самоочевидность воспитанных инстинктов ; отныне тон социального задавался культом улицы, подворотни и бездомья. Нужно представить себе классические фигуры изгоев в жесте их прощания и ухода , всех этих непонятых, отверженных и одиноких Ренэ, Алеко и Чайлд-Гарольдов, и повернуть их потом обратно, в наступательность , увидев в них уже не изгоев, а хозяев , которые на этот раз не себя выгоняют из общества, а общество вгоняют в себя, в свою беспризорность и вопиющую антисоциальность . В босяке, выступившем в маске студента , марксизм удался, как никогда еще до этого: старая Европа, Европа отечеств, была стерта до основания, и на tabula rasa предстояло теперь наносить новые опыты и новые коллективные вдохновения.
17.
Цель удара была отслежена на поражение, и целью была — память . Разрушение памяти протекало быстро и безболезненно, очевидно оттого, что заокеанский заказчик, никогда сам не страдавший никакой памятью, не особенно считался с нею и у своего европейского подельника. Фашизм, и здесь, оказался исключительно удобным рычагом воздействия, потому что прошлое легче всего было разрушать, дискредитируя его связями с фашизмом, а связи с фашизмом, при определенной сноровке (и «грантах» ), можно было найти где угодно и в чем угодно, особенно через мощные суггестии упрощения, огрубления и оглупления: сначала языка, а уже из языка и всего помысленного и почувствованного. Могли ли азартные писатели-близнецы, создававшие на заре советского мифа автохтонный образ Эллочки-людоедки, представить себе, в какой мере людоедки и людоеды станут определять культурный профиль Запада, когда придет время отлучать Запад от его первородства и заполнять неадекватностями! Случившееся в целом напоминало какую-то гигантскую рокировку, в которой всё маргинальное, карнавальное, неприличное, похабное, приапическое менялось местами с традиционным и привычным, или, проще, ненормальное выдавалось за нормальное — в перспективе обратного движения: нормального в ненормальное . Взбесившийся студент прилюдно эксплуатировал все опции патологического, заслоняясь своими конституционными свободами и внушая оробевшему бюргеру, что любое недовольство в этом пункте автоматически зачисляется в графу тоталитаризмов и фашизмов. На мушку были взяты понятия , потому что безошибочный номиналистический инстинкт подсказывал, что, только искореняя или криминализируя понятия, можно рассчитывать на абсолютный эффект в переделке вещей. Конечно, уже большевизм и национал-социализм достигли здесь внушительных результатов, но по сравнению с размахом 60-х и последующих годов, результаты эти выглядят настолько же скромными, насколько социализм немецкого и советского производства был скромнее оруэлловского «ангсоца» . Решающей для этих старых социализмов оставалась именно их почвенность : культ семьи и авторитет. Фрейдизм, который в первые советские годы так же уверенно вламывался в марксизм, как махизм в последние досоветские, вскоре был запрещен, а вместе с ним прекратились и параллельно практикуемые свально-комсомольские безумия в стиле femme fatale Коллонтай. Сила Эроса не должна была растрачиваться впустую, но, как производительная сила, служить производству: детей и валового национального продукта. Когда впоследствии дружно хохотали над абсолютно точной и лишь тупо выпаленной фразой: «В СССР нет секса» , то делали это, скорее, из конфуза и желания выглядеть как те, у кого он есть. Но его здесь в самом деле не было. Крылатый Эрос верой и правдой служил отечеству, и проходил по ведомству не медицины, а идеологического отдела. В новом несоветском марксизме 60-х гг. он занял место базиса . Динамика студенческой эпохи и была динамикой разрушения семьи , а параллельно и авторитета, неугодные образчики которого тем яростнее втаптывались в грязь, чем яростнее культивировались угодные: от Троцкого, Ленина и Мао до более мелких божков, вроде гламурного бандита Че Гевары или эстрадной шпаны… Всё это на фоне памяти, расслабляемой до беспамятства, соответственно: истории, редуцируемой до «вчера» и «позавчера» , после чего культурные продукты оценивались по тому же стандарту (спрос, индекс цитируемости, срок годности), что и бытовые. Вещи — нормы, состояния, факты души — бесследно исчезали: не в том смысле, что их не было больше, а в том, что их всё меньше и меньше воспринимали, и не воспринимали оттого, что нечем было уже воспринимать; поколению, знающему любовь не иначе, как занимаясь ею, романы, вроде Красной лилии Франса, показались бы даже не патологией, а просто смешной и нелепой эзотерикой, потому что от этого вчерашнего шедевра ревности легче было дотянуться до древнего Катулла, чем до «партнеров» и «партнерш» сегодняшнего дня. Подобно римлянке, муж которой страдал зловонными выделениями, но которой, так как он был единственным в её жизни, казалось, что это и есть запах мужчины, поколение читало Брехта и Блоха и думало, что это и есть поэзия и философия . Когда американский композитор Нед Рорем заявил, что Битлз лучшие сочинители мелодий после Шуберта, это сразу стало общим местом и даже каноном восприятия; могикане молчали, боясь обвинений в музыкальном тоталитаризме или, как минимум, в старомодности, а несравненный Гульд, неподражаемо высмеявший глупость [15], был, как всегда, просто сочтен эксцентриком. Поразительнее всего выглядели темпы случившегося: полная победа над тысячелетиями за какие-нибудь десять-пятнадцать лет. Им удалось не только идеологизировать отказ, им удалось еще захватить «почту и телеграф» : рычаги влияния, от детских садов и школ до прессы и телевидения, которые они переиначили на свой лад, чтобы самим же и определять, что́ и как может говориться об их победе.