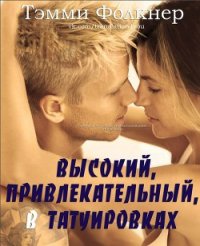Деревянный и бронзовый Данте, или Ничего не случилось? - Кубатиев Алан Кайсанбекович (читать книги полностью TXT) 📗
Мне тоже стало не до литературы. То, что случилось со мной, происходит со многими, но я надломился. Очень уж всё было неожиданно — как падение ножа гильотины. Зря, конечно. Зря еще и то, что я решил — все написанное было ложью.
Москва, улица Горького, ныне Тверская. Две совершенно роскошные тетки помогают изысканно одетому Сергею Мартинсону вылезти из машины и войти в тогда еще не сгоревший ресторан Дома актера, а он громким тенором возглашает: «Когда я разводился в первый раз, я переживал целых сорок восемь часов!.. Когда я разводился во второй, то ужасно сожалел об этих сорока восьми часах!..»
Рукописи были изорваны и сожжены — все, кроме двух, уцелевших случайно. Сожжено было несколько начатых вещей, наброски исторического романа о Каролине и Николае Павловых, куча переводов из Шелли и Киплинга, много другого всякого, чего и не вспомню. На пустыре за лесом пылал туго набитый бумажный мешок, залитый оставшимся от ремонта бензином, перемешанным с краской. Огонь сам умер только тогда, когда не осталось ни клочка исписанной бумаги.
Кроме рукописей, сгорело что-то такое, что и посейчас не восстановилось до конца.
Я замолчал. Я замер. Я замерз.
Как у Лазарчука. «И тогда я сказал: „Я там умер“.
Многие из моих соратников восхитительно умеют перекачивать свою биографию в фантастическую прозу. Кому-то это удается, кому-то нет, облагородить бытие через литературу — задача сложная. Для бытия, разумеется.
Одно из замечательных произведений русской фантастики последних лет создано человеком, пережившим все описанное за пределами фантастики: там почти ничего не сочинено, кроме фантастического мира. Мало кто это знает, но даже для посвященных мало что добавляется к этой отличной книге. Другой дивно описывает все свои романы, адюльтеры и просто беглые перепихоны, разбавляя их злорадным изображением литературных и полемических противников в позорящих позах. Третий великолепно оживляет свой компьютерно-игровой опыт и фидошные перебранки. Четвертый просто зарисовывает писательскую среду, слепляя, как экономная хозяйка обмылки, бывалые впечатления в небывалые комбинации…
Ну да ладно. Все равно все превращается в литературу, как убедился в этом я, прочитав «Жизнь Кости Жмуркина, или Гений злонравной любви» Юры Брайдера и Коли Чадовича.
Когда-то придуманная мной сказка, убившая, по утверждению Самвела Диланяна, Леонида Ильича Брежнева, стала у них целым романом, втянувшим в себя, кроме прочего, всю фантастическую и околофантастическую тусовку времен начала перестройки. Смешно, грустно и странно сознавать, что и ты уже в немалой степени персонаж…
Мне такое было не под силу. Конечно, что-то там сгорело между строк, пока душа меняла оболочку… Но я практически никогда не делал себя героем своей прозы и, надеюсь, избегну этого. Не по скромности — наоборот, из гордыни.
То, что происходит со мной, — происходит со мной; то, что происходит со мной пишущим, — происходит с тем и для того, что послало меня в мир и привело к этому неверному и коварному делу. Я посредник, я средство для языка, по слову Иосифа Бродского.
Извлечение души, «to put something out of one’s system» (Хемингуэй), не входило и не входит в цели моей работы.
Душа моя попадает в нее каким-то другим, не вполне ясным образом. Скорее всего через мой голос.
Но замолчал я надолго. Были крошечные просветы. Начинали звучать слова, мелькали картинки. Но потом все снова потухало. Объяснять это не хочется. Не дай бог испытать, хотя понять можно, только испытав. Описал это один-единственный писатель, но так, как никто, — Роберт Силверберг в «Dying Inside». Пожалуй, еще Киплинг в «The Vampire». Наверное, потому я больше и не болел даже гриппом, потому что была все время эта гложущая болезнь, не отпускавшая меня с января 1987-го до августа 1993 года.
Как это странно — быть безумно здоровым телесно и одновременно подыхать… Пытаясь не сдаваться, я писал статьи и переводил, грешил журналистикой и политикой… На последние дубултовские семинары я попадал уже в этой диапаузе, и ничего значительного я там, к своему горю, уже больше не показал. Меня по-доброму спрашивали, когда я опять привезу что-нибудь, и вот это была настоящая боль.
В эти разы я работал в группе Сергея Александровича Снегова. Не помню, когда я с большим трудом впервые раздобыл «Люди как боги»; тогда она мне понравилась и даже полюбилась. «Кольцо обратного времени» едва нашел в Ленинке. А потом мы столкнулись на одном еще московском семинаре, но тогда я видел его издалека. Лысый, жилистый, коренастый, с опасной усмешечкой, с приопущенными веками, как бы всегда присматривающийся, он был необычен. Мне как-то не приходилось никогда особенно близко общаться с ТЕМИ лагерниками солженицынского толка, отец не любил рассказывать о своих метаниях и уходах от ареста, дед Иван уцелел, потому что прятался то в степи, то в горах, и Снегов оказался, по сути, первым в этом ряду.
Но именно это меня очень мало в нем интересовало. Вернее, интересовало потому, что мне он показался в высшей степени несломленным человеком. Он был чудовищно начитан. Великолепно знал русскую философию двадцатого века, тогда потаенную, цитировал мне кусками молодого Лосева, Франка, Лосского… Многие имена и названия впервые я услышал от него.
Перед каким-то из занятий семинара я сидел в одной из гостиных дубултовского ДТ. Окно в ней было во всю стену, и Рижский залив с куском берега был оправлен в эту раму. Мне приходилось раньше бывать на Балтике, но летом; зимнего моря я не видел никогда.
По серой неподвижной глади переносились медленные дымные столбы. Танец призраков. Прогулки духов. Для меня, человека степного и горного, это было невероятно, гипнотично и ошеломительно. Да и море я видел впервые — не считать же морем Обское водохранилище или Иссык-Куль.
За спиной раздался голос:
«Что, любуетесь?..»
«Признаюсь, Сергей Алексаныч, — отвечал я. — Оторваться не могу».
Он опять усмехнулся и поинтересовался:
«Вы океана не видели?»
«Что вы, откуда…»
«Ну тогда понятно, почему вам так нравится эта рижская лужа… Бог с вами».
Теперь я уже видел два океана, Атлантику и Тихий. Остались Индийский и Ледовитый. И все равно ярче всего и блаженнее помню эту серую зимнюю Балтику со свернувшимися на припае лебедями…
Мы говорили о многом, и эти три встречи дали мне многое. Друзьями мы не были — ему ближе были Гена Прашке-вич, Стругацкие, Бэла Григорьевна Клюева, однако… Что-то во мне он оценил, что-то признавал, но пару неожиданных тычков я от него все же огреб. Он с той же усмешечкой рассказывал, как Лев Гумилев вызвал его на дуэль. Дуэль в лагере? — поразился я. Представьте себе, сказал он. А из-за чего? У нас был поэтический турнир, сказал Сергей Александрович. И моему стихотворению жюри присудило первое место. А Лев Николаевич воспротивился, потому что считал, что его стихотворение лучше. Мы поссорились, и дело дошло до вызова, и были мы очень близко к реальному поединку по всем правилам дуэльного кодекса…
Он прочитан нам оба стихотворения — и свое, и Гумилева, — а я записал их тогда на свой диктофон и не перенес потом на бумагу… А мой приятель по ошибке записал на эту кассету на одолженном ему моем «Сони Пэрлкордер» интервью с академиком Сахаровым. Вот так. Такие у нас переплетения. Если гумилевское есть еще надежда отыскать — где-то издана подборка его стихов, — то снеговское… С нами тогда был Слава Логинов. Может, его могучая память удержала что-нибудь?
Еще одна настоящая боль — это Наташа Райс, найденная на одной из этих дубултовок, недолго светившая и потерянная опять-таки навсегда. Она была по-настоящему талантлива, добра и честна, у нее было поразительное, немного хармсовское чувство юмора; она выходила в какие-то неведомые измерения, но ее сглодала одна из самых мучительных форм рака…
Лариса Теодоровна Исарова 2, побывшая в моем мире дольше, но тоже ушедшая туда, куда ушел и Аркадий Натанович, Роман Григорьевич Подольный, Александр Исаакович Мирер, Нина Матвеевна Беркова, Витя Жилин, Люба Лукина, Лена Михайлова, Алексей Свиридов, Люда Козинец, Володя Заяц…
2
Странное дело. Я дважды пытался написать про Ларису Теодоровну и один веселый эпизод, связанный с нею, но оба раза материал исправно слетал с диска, и остальная часть рукописи тоже калечилась… Рискнуть, что ли, еще разок? Нет, не буду. Лучше устно, как делает Гена Прашкевич…