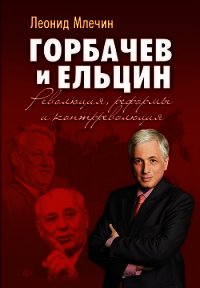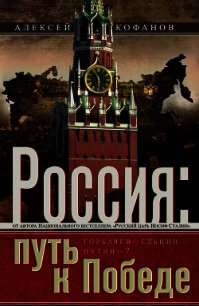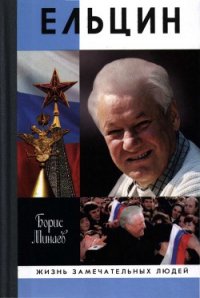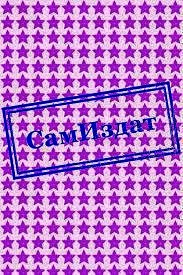Русское солнце - Караулов Андрей Викторович (книги серия книги читать бесплатно полностью .TXT) 📗
Главный итог эпохи Михаила Горбачева: русский народ убедился, что от него, от народа, ничего не зависит.
И убедился (сколько можно себя обманывать, верно?!) уже на века.
Покорность перед жизнью, какой бы она ни была, покорность перед обманом, голодом, смертью — вот, пожалуй, самый страшный результат того, что Михаил Сергеевич назвал перестройкой.
Оказалось, что гласность, свобода слова, многопартийность — все, чем мог бы гордиться Горбачев и его соратники, — это не для народа, нет. Это для Москвы, Ленинграда и республиканских столиц. Русский человек — не искушенный человек; он всегда понимал свободу только в пределах своей улицы, а в пределах улицы она, эта свобода, примитивна, да и особых стеснений он никогда не чувствовал (даже при Сталине). А от Горбачева, от перестройки, от съездов в Москве русский человек ждал на самом деле совсем другого: чтобы (главное условие) не стало хуже и чтобы раз в год, хотя бы раз в год, в день рождения Михаила Сергеевича допустим, в стране бы снижались цены. Пусть на копеечку, но снижались, как при Иосифе Виссарионовиче, — все!
Если бы Горбачев начал реформы с экономики, а уж потом, если есть успех, если люди за него, подтянул бы к этой реформе общественные институты, свободу слова и т. д. — царь бы он был в России, царь; его б династия триста лет правила, и народ не пугался бы, а только радовался, что у Горбачева не сын, а дочь!
И до чего ж дошло? Свои ребята, ачинские, Пересекин Коля да и Борис Борисыч… тот же… знают, поди, почем ноне плацкарта в Москву… — Колька точно ездил, пусть не в Москву, а в Свердловск, но знать должон. И не говорит, собака! Завидует! Откуда, мол, деньга такая, чтоб в Москву мотаться. А у Егорки денег-то в один конец!
С Наташкой-подлюкой Егорка решил разобраться следующим образом: ничего ей, сучке, не говорить, но оставить записку: так, мол, и так, временно уехал… не скажу куда, потому что обижен до крайности.
И, не мешкая, на вокзал, к поезду: будет билет — хорошо. Не будет — ночь-другую можно и на вокзале пересидеть, срама тут нету…
Красноярск стал какой-то обшарпанный: ветер, мгла, людей за сугробами не видно, автобусы еле ползают, натыкаются на другие автобусы.
И вокзал жуткий, холодный. Как только тетки в кассах сидят? Или у них в ногах батарея спрятана? Теток топят, наверное, не то они жопу от стула не оторвут, а на вокзал, видно, власть не тратится, потому что народ ко всему привонялся, ничего не замечает — не до этого.
Сто семь рублей билет! Ну, дела!
До поезда был час, все вышло очень даже неплохо. Егорка смотался в буфет, но там только коньяк по восемнадцать рублей и бутерброды — черный хлеб, селедка и кусок огурца. Хорошо у Наташки были вареные яйца, Егорка взял с собой восемь штук. И правильно: с этим буфетом точно в ящик сыграешь!
Если бы русский человек не был бы так вынослив, страна бы — вся страна — жила бы намного лучше: только очень сильный человек может годами жить так, как жить нельзя.
Сила есть — ума не надо: что ж жизнь ругать, себя ругать, если силы есть?
Поезд пришел минута в минуту. Егорку поразило, что в вагоне, где, как он думал, народу будет тьма тьмущая, не было почти никого.
С верхней полки свесилась лохматая голова:
— Дед, закурить есть?
— Какой я… дед? — удивился Егорка.
— Ну, дай папироску…
— Да, счас!
Голова исчезла в подушках.
«Надо же… дед!» — хмыкнул Егорка. Он вроде как брился сегодня, что… не видно, что ли?..
— А ты, знача, курить хошь?
— Хочу! — свесилась голова. — Целый день не курила!
— А годков скель?
— Ты чё, дед, — мент?
— Я т-те дам… дед!
— Лучше папироску дай — поцелую!
— А ты чё… из этих? — оторопел Егорка.
— Из каких… из этих?
— Ну, которые… — Егорка хотел выразиться как можно деликатнее, — по постелям… шарятся…
— Я — жертва общественного темперамента, — сказала девочка, спрыгнув с полки. Она села напротив Егорки, тут же, не стесняясь, поджала голые коленки и положила на них свой подбородок.
— Ну, дедуля, куда шпандоришь?
На вид девочке было лет четырнадцать, не больше.
— Ищё раз обзовеш-си — встану и уйду, — предупредил Егорка.
— А ханки капнешь?
— Ч-чё? Кака ханка тебе? Ты ж пацанка!
— Во бля! — сплюнула девчонка. — А ты, видать, прижимистый, дед!
За окном Красноярье: елки и снег.
— Мамка шо ж… одну тебя пускат? — не переставал удивляться Егорка.
— Сирота я. Поньл?
— Во-още никого?!.
— Сирота. Мамка пьет. Брат есть.
— А чё тогда сирота?
— Умер он… летом. Перекумариться не смог, дозы — не было. Не спасли.
— Так чё: мать есть…
— Пьет она. Так нальешь?
— Приперло, што ль?
— Заснуть хотела… думала, легче бу. Не-а, не отпускает.
Пришел проводник, проверил билеты.
— В Москву?
— Ага, — кивнул Егорка.
— По телеграмме, небось?
— Какой телеграмме? — не понял Егорка.
— Ну, можа, преставился кто…
— А чё, просто так в Москву не ездят?.. — удивился Егорка.
— Нет, конечно. Не до экскурсий счас.
— А я — на экскурсию, понял?
Проводник как-то странно посмотрел на Егорку и вышел.
— Поздравляю, дед! — хихикнула девчонка, — лягавый, в Иркутске сел, этот… сча ему стукнет, они о подозрительных стучат, значит, если тот с устатку отошел — жди: явится изучать твою личность!
Егорка обмер: док-кумент-то в Ачинске…
— А ежели я… дочка, без бумажек сел, пачпорт оборонилси, — чё будет?
— Ты че, без корочек?
— Не… ты скажи: чё они делают?
— Чё? — девчонка презрительно посмотрела на Егорку. — Стакан нальешь, просвещу.
— Тебя как звать-то?
— Катя… Брат котенком звал. Дед, а ты не беглый?
— Ты чё… — оторопел Егорка. — Какой я беглый? К брату еду, из Ачинска сам. Слыхала про Ачинск?
— Это где рудники?
— Не. У нас комбинат, Чуприянов директором. Знаешь Чуприянова?
— Значит, беглый, — хмыкнула Катя. — От жизни нашей бежишь. Слушай: водки здесь нет, народ портвейн глушит… Пятеру гони!
— Пятеру?
— А ты думал! Наценка.
— Так ты деньгу возьмешь — и сгинешь.
— Ты чё, дед? — Катя обиженно поджала губы. — Я — с понятием. Если б — без понятия, давно б грохнули, — понял?
Ресторан был рядом, через вагон.
«Обложили, суки, — понял Егорка. — Надо ж знать, кого убивать, — куда меня черт понес?..»
Катя вернулась очень быстро:
— Давай стакан!
Она плеснула Егорке и тут же опрокинула бутылку в свой стакан, налила его до края и выпила — жадно, взахлеб, будто это не портвейн, а ключевая вода.
«Молодец девка», — подумал Егорка.
Несколько секунд они сидели молча, — портвейн всегда идет тяжело.
— Чё скажешь? — спросил Егорка.
— Не могу я так больше! — вдруг заорала Катя. — Слышишь, дед, не могу-у!..
Она вдруг резко, с размаху упала на полку, закинула ноги в тяжелых зимних ботинках так, что красная длинная майка, похожая на рубашку, сразу упала с колен и Егорка увидел грязные белые трусы с желтым пятном посередине.
Катя рыдала, размазывала слезы руками, потом вдруг как-то хрипнула, перевернулась на бок и замолчала.
Егорка испуганно посмотрел на полку. Девчонка спала как мертвая.
35
Так получилось, что Борис Александрович видел Бурбулиса уже несколько раз — по телевидению. Бурбулис показался Борису Александровичу умным и неординарным человеком.
Он написал Бурбулису письмо, предлагая обсудить судьбу Камерного театра, и Бурбулис, к его удивлению, откликнулся. Правда, не сразу, где-то через месяц: Недошивин нашел Бориса Александровича по домашнему телефону и передал, что в субботу, к десяти вечера господина Покровского ждут в Кремле.
Поздновато, конечно, Борис Александрович хотел отказаться (не по возрасту как-то бродить по ночам), но любопытство пересилило. Он был уверен, что Бурбулис сидит там же, где был кабинет Сталина, но в Кремле все давно изменилось; к Сталину он ходил через Троицкие ворота, а к Бурбулису надо через Спасские. «Сколько же у них кабинетов, а?» — поразился Борис Александрович. Он не мог предположить, что только в одном Кремле можно, при желании, разместить более трех тысяч чиновников, причем у каждого — собственное место, свои апартаменты, не считая секретарей и охрану.