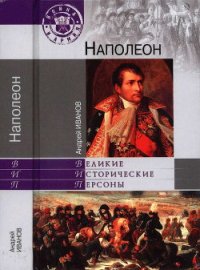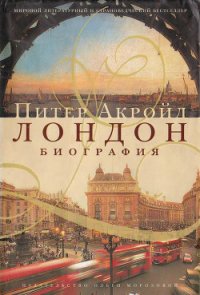Горбачев - Грачев Андрей (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Для всей Европы «холодная война» окончательно закончилась с падением Берлинской стены и воссоединением Германии. По версии советской стороны (пресс-секретаря МИДа Геннадия Герасимова), «холодную войну» сообща похоронили на дне Средиземного моря Буш и Горбачев во время встречи на Мальте. По мнению американцев (госсекретаря Дж.Бейкера), она действительно осталась в прошлом, когда представители СССР и США вместе проголосовали в Совете Безопасности ООН в январе 1991 года за военные санкции против иракского режима Саддама Хусейна, вторгшегося в Кувейт. По-видимому, правы все, поскольку эти, как и многие другие не названные, события в целом составили ту критическую массу, сумму перемен, которая позволила мировой истории, долгие годы разделенной на разные потоки, слиться в единое русло. Мечтали об этом многие, верили в то, что это произойдет, единицы, поставил эту цель как практическую, реально осуществимую задачу один человек — Горбачев.
Дипломатический обозреватель гамбургского еженедельника «Цайт» К.Бертрам писал: «Я был убежден, что „холодная война“ и гонка вооружений никогда не кончатся. Свою задачу я видел поэтому не в том, чтобы содействовать прекращению „холодной войны“, а в том, чтобы сделать ее более выносимой, спокойной, стабильной. Но Михаил Горбачев перевернул этот мир». В 1989 году журнал «Тайм» избрал Горбачева «человеком десятилетия», а Ричард Никсон не побоялся назвать его «человеком века».
В декабре 1990 года Горбачев не поехал получать присужденную ему Нобелевскую премию мира (он приехал в Осло и выступил с Нобелевской лекцией весной 1991-го). На торжественной церемонии его представлял зам. министра иностранных дел А.Ковалев. Почему советский президент уклонился тогда от почестей со стороны мирового сообщества, которые, бесспорно, заслужил? Главная причина, разумеется, — внутренняя ситуация в стране. К осени 90-го разрыв между внешнеполитическим триумфом Горбачева и все более драматичными последствиями его политики внутри Советского Союза стал очевидным. И запоздавшая Нобелевская премия только подчеркивала этот контраст. Кроме того, к этому времени уже и внешняя политика Горбачева стала терять внутреннюю поддержку — из самого выигрышного аспекта перестройки, дольше других вызывавшего почти единодушное одобрение не только населения, но и большей части его окружения, она вслед за другими сюжетами превратилась в поле ожесточенной политической борьбы.
Да и принципы нового мышления, сформулированные Горбачевым как аксиомы грядущего миропорядка в его речи в ООН, и первый среди них — отказ от применения силы, подверглись труднейшему испытанию на просторах трещавшей по швам советской империи. События в Тбилиси, Карабахе, Баку и Прибалтике, которые все труднее было квалифицировать как разрозненные инциденты, настойчиво ставили перед Горбачевым неприятный вопрос: применимо ли новое политическое мышление к внутренней политике, и если нет, то каковы критерии использования его постулатов — от свободы выбора до неприменения силы?
Всклокоченная реальность его собственной страны, которую, как выяснилось, значительно труднее реформировать, чем окружающий ее мир, вновь возвращала Горбачева к теперь уже заочному диспуту с классиком старого политмышления Громыко — тот, находясь в отставке, как пишет его сын Анатолий, твердил: «В кризисных ситуациях дозированное применение силы оправдано». И, разочаровавшись в своем «крестнике», о котором однажды в сердцах заметил: «Не по Сеньке шапка», резюмировал: «Если гордишься своим пацифизмом, не садись в кресло руководителя великой державы». Конечно, легко сказать «в кризисных ситуациях», но как быть с политической головоломкой выхода из системного кризиса через перестройку — этот спровоцированный, задуманный, рукотворный кризис, — «созидательный хаос»?
Со всеми этими вопросами ему еще предстояло столкнуться в последующие, отведенные перестройке годы. Прощаясь с Рейганом и Вашингтоном, Горбачев имел еще основания считать, что время работает на него. И поэтому, когда на заключительной пресс-конференции кто-то из въедливых журналистов, нарушив приподнятую атмосферу, задал бестактный вопрос о внутренних разногласиях в советском руководстве, генсек неожиданно резко ответил: «Внутри Политбюро и ЦК нет разногласий, и могу вас заверить, что никакого раскола нет и не будет». Увидев удивленные лица журналистов, явно пораженных неожиданным пылом этой тирады, он, желая сгладить неловкость и как бы оправдываясь, добавил: «Может быть, я поддался эмоциям, но я искренен перед вами». Подозревать его тогда в неискренности не было оснований. Однако если бы тот же самый вопрос ему задали три месяца спустя, он, возможно, отвечал бы не так убежденно.
ГЛАВА 6. «ПАРТИЯ — ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО МНЕ НЕ ИЗМЕНИТ»
ПРОЙДЕТ ЛИ ВЕРБЛЮД ЧЕРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО?
Весной 1988 года на монолитном фасаде реактора Перестройки — горбачевского Политбюро — появились первые трещины. До этого времени мало из того, что там «варилось» и «клокотало», выплескивалось наружу, хотя споры в Ореховой комнате Кремля и в зале Политбюро случались нередко. Но Горбачеву удавалось относительно легко, опираясь на личную лояльность к нему членов партийного синклита, гасить разногласия. Еще совсем недавно он позволял себе высмеивать «потуги» западной прессы, которая «провоцирует нас, хочет перессорить, расколоть перестройку. Запад нас уже разделил: Горбачев, дескать, за вестернизацию, Лигачев — за русификацию, Яковлев — вообще представитель масонских групп и космополитических интересов, а Рыжков — технократ и держится в стороне от идеологии». А уже зимой 1988 года вслед за журналистским дымом появился огонь. В принципе, Михаил Сергеевич должен был быть к этому готов — ведь пересказывал же он на Политбюро разговор академика Г.Арбатова с видным американским советологом, предупреждавшим: «Главные проблемы у вашего Горбачева впереди. Они проявятся, когда перестройка начнет от слов переходить к делу и затрагивать интересы людей».
В официальной хронологии перестройки 1988 год — переломный. Сам Горбачев характеризует его по-разному. Иногда как начало ее второго этапа, конец «митинговой стадии», когда «пришли к пониманию того, что надо не улучшать, а реформировать систему». Иногда говорит откровеннее: «Собственно перестройка начинается с XIX партконференции». Первый или второй этап, в конце концов, не имеет значения, важно, что этот год обозначил новый рубеж — не столько даже в развитии ситуации в стране, сколько во внутренней эволюции самого Горбачева. (По понятным причинам, по крайней мере в первое время «начатая партией» перестройка послушно следовала за новым генсеком ЦК КПСС, как нитка за иголкой, куда бы он ни повелел.)
Подведя, по его признанию, вместе со своими сторонниками «неутешительные итоги» 1987 года, он явно созрел для того, чтобы отбросить «костыли» ленинских указаний и цитат. Но при этом окончательно оттолкнуться от «пристани марксизма» и пуститься в самостоятельное плавание, к чему его все настойчивее подталкивала не укладывавшаяся в цитаты жизнь, не решался. А.Черняев вспоминает, с каким облегчением Горбачев как-то сообщил ему: «Знаешь, Анатолий, перечитал я „Экономическо-философские рукописи 1844 года“ Маркса. А ведь он там не отказывается от частной собственности!» Поделиться этим «открытием» с членами Политбюро генсек еще не отваживался.
Девизом нового этапа должно было стать «разгосударствление» партии, избавление партийного аппарата от надзора за деятельностью госорганов. Стряхнув функции государственного и хозяйственного управления, партия, превратившаяся в омертвевшую бюрократическую структуру, по замыслу Горбачева, должна была вернуть себе «живую душу» политического движения. Мог ли вчерашний секретарь крайкома, многоопытный партфункционер не понимать, что разделить партию и государство, сросшиеся за годы советской власти, как сиамские близнецы, — значило рисковать, что ни один из них — ни партия, ни государство — не переживет этой операции. Ведь помимо партийных комитетов в стране, в сущности, не было других управляющих органов.