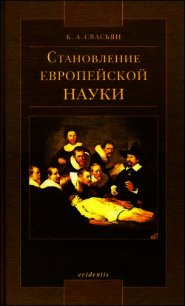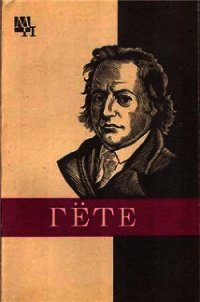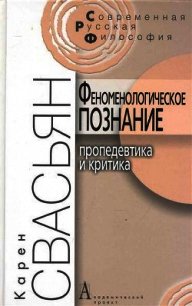…Но еще ночь - Свасьян Карен Араевич (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
5.
Соловьев — при всей несравнимости — типичен и характерен. Он задал планку, до которой будет дотягиваться первое (оно же последнее) поколение русских философов в отведенные им считанные годы жизни. Нет сомнения, что его можно в тех или иных разбавлениях найти едва ли не во всех достойных упоминания событиях российской дореволюционной философской жизни. Но найденное будет «не то»: философия Соловьева минус он сам: без «больших коричневых египетских свеч», без «Трех свиданий», без (реальной или вымышленной) переписки с дьяволом… Вот в Европе давно уже стало модой говорить о русской софиологии начала века; прилежные докторанты пишут о Булгакове, Флоренском, Бердяеве и, конечно, Соловьеве.
С чисто философской точки зрения тут мало к чему можно придраться, потому что внимание приковано к текстам, а тексты цитируются и сопоставляются безупречно. Но это, повидимому, и есть тот самый случай, когда объективно корректный подход оказывается субъективно недопустимым. Соловьевская София оттого и не укладывается ни в какую софиологию, ни даже софиософию, что она представляет собой не столько философскую, сколько биографическую тему, ту самую частную метафизику, от которой по-отечески предостерегал своего русского ученика немецкий профессор Виндельбанд. Он и писал-то о ней мало, настолько мало, что иной въедливый исследователь счел бы преувеличением говорить о «софиологии Соловьева». Во всяком случае трудно отделаться от впечатления, что Софией, как философско-богословским понятием, он отвлекал внимание от той другой, философски и богословски невозможной Сонечки (Söfchen Новалиса), так испугавшей его в нижегородской невесте Анне Шмидт.
Давно угадано, что он не философствовал о Софии, а просто был в нее безнадежно, по-гимназически влюблен, и даже не без ревности к другим её («слюнявым», по его определению) поклонникам, вроде мистиков Гихтеля, Арнольда и Пордеджа («Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое» [215]). Можно гадать, как бы он отнесся к поклонникам, вроде Булгакова и Бердяева, но, скорее всего, повода для ревности тут он не нашел бы никакого. Одно несомненно: увиденная так, его философия оказывается сплошным заметанием следов его жизни, где ему, философскому виртуозу, пришлось притворяться философом, чтобы отвлечь внимание любопытных коллег от вещей куда более важных… Короче, это была сплошная провокация, если и удавшаяся, то не иначе, как исключительно в этом единственном случае; особенность Соловьева в том, что он гностик (notabene: не просто специалист по гнозису, пишущий в Брокгауз, а сам ), причем в эпоху университетского скепсиса и атеизма, а значит, порча и напасть для учеников и последователей, которые, учась и подражая словам о гнозисе, даже не догадываются, что слова о гнозисе лишь обманный маневр, отвлекающий от самого гнозиса. Но таким обманным маневром была у Соловьева философия вообще, которая уже тогда стояла под знаком двоякого осуществления: либо в обычном университетско-академическом смысле, либо в смысле парафилософском, когда в тематический круг её попадали темы, для которых в перспективе более новой традиции (уже со времен «двойной истины» схоластики, а позже после самоопределения в линиях рационализма и эмпризма) в ней не было места. Конечно, черта, разделяющая обе, никогда не была, да и не могла быть однозначной; аберрации, по мере приближения к ней, множились неизбежным образом. Всё решалось характером самих аберраций: случайныx, спорадическиx, побочных, и тогда более или менее терпимых, либо вытесняющих всё прочее и занимающих центральное место.
Понятно, что в первом случае философия проживалась безлично, как, говоря словами Шопенгауэра, «Professorenphilosophie der Philosophieprofessoren» (профессорская философия философских профессоров), но понятно и то, что во втором случае она полностью зависела от личности самого философа. Соловьев, чувствовавший себя оба раза как дома, должен был тем не менее расстаться с университетом, как наиболее неподходящим местом для своей «Privatmetaphysik» (любопытно, что на вопрос, отчего Владимир Соловьев не профессор, граф Делянов, министр народного просвещения, ответил: «У него мысли»). Формула разрыва действовала безоговорочно: чтобы не выглядеть смешным в своих увлечениях парафилософией, нужно было не просто мыслить её, но и жить, причем так, чтобы личное было значительнее помышленного. Это испытание Соловьев выдержал полностью, как полностью же выдержал его и другой великий эксцентрик, Фридрих Ницше, в своем аналогичном façon de vivre: если хочешь философствовать о дьяволе, будь дьяволом, а если, соответственно, о Боге, то Богом, но никогда и не заикайся о том и другом, если ты только филолог и теолог.
В этой встрече во времени обоих философов Россия противостоит Европе уже не как варвар или дитя, а на равных. Просто в Ницше западная философия завершалась, тогда как русская в Соловьеве начиналась. Что же удивительного в том, что началась она не только с конца, но и как конец, и что по этой странной логике русские философы кончались еще до того, как они собственно начинались. Тягостно наблюдать, с какой лихостью и легкостью в мыслях они попадали в мышеловку последних вопросов (Бердяев: «мы давно уже философствуем о последнем» [216]), даже не задумываясь o том, что есть же и предпоследние . Вот так и проморгали они отведенный им день в спорах о четвертой ипостаси и пришествии Антихриста, впечатляя пиротехникой портативных мозговых апокалипсисов. Или сочетанием нарциссического расстройства со старческой деменцией.
Следующие пассажи из книги одного слывущего — всё еще слывущего — великим русского философа под характерным заглавием «Самопознание» могли бы дать некоторое представление о названном сочетании [217]: «У меня есть страстная любовь к собакам, к котам, к птицам, к лошадям, ослам, козлам, слонам. Более всего, конечно, к собакам и кошкам, с которыми у меня была интимная близость. Я бы хотел в вечной жизни быть с животными, особенно с любимыми. У нас было две собаки, сначала Лилин мопс Томка, потом скайтерьер Шулька, к которым я был очень привязан. Я почти никогда не плачу, но плакал, когда скончался Томка, уже глубоким стариком, и когда расставался с Шулькой при моей высылке из советской России.
Но, может быть, более всего я был привязан к моему коту Мури, красавцу, очень умному, настоящему шармёру. […] В июле 1940 года мы покинули Париж и уехали в Pilat, под Аркашоном. С нами ехал и Мури, который чуть не погиб в мучительном кошмарном пути [читая это, надо думать о 45 тысячах убитых и 110 тысячах раненых этого французского месяца. — К. С.], но проявил большой ум. Уже в самом начале освобождения Парижа произошло в нашей жизни событие, которое было мной пережито очень мучительно, более мучительно, чем это можно себе представить. После мучительной болезни умер наш дорогой Мури. […] Я очень редко и с трудом плачу, но, когда умер Мури, я горько плакал. И смерть его, такой очаровательной Божьей твари, была для меня переживанием смерти вообще, смерти тех, кого любишь. Я требовал для Мури вечной жизни, требовал для себя вечной жизни с Мури. [Это требование надо представить себе в некоем воображаемом паралипоменоне главы «Бунт» из «Братьев Карамазовых», где брат Иван требует вечной жизни для кота, грозя в противном случае возвратить билет Богу. — К. С.] В связи со смертью Мури я пережил необыкновенно конкретно проблему бессмертия».
6.
Нет смысла спорить о том, была ли русская философия псевдоморфозом сознания в шпенглеровском понимании или просто журфиксом литературно и богословски одаренных д’артаньянов, вздумавших с первых же проб пера покорить Париж. Ничего другого, по существу, не означала контроверза славянофилов и западников, вся нелепость которой заключалась в том, что говорить следовало не о славянофилах и западниках, а о западниках и западниках: тех, которые, пройдя школу Запада, стали его дезертирами, и других, которые, пройдя ту же школу, остались его поклонниками. Чем же, если не типично западной девиацией, и был сам отказ от Запада, как некоего чужеродного элемента, грозящего опасностью псевдоморфоза!