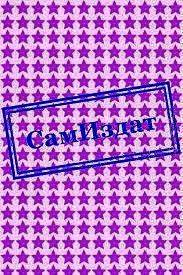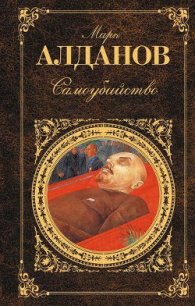Писатель и самоубийство - Акунин Борис (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
Мне однажды довелось читать сочинения японских третьеклассников на стандартную тему «Кем я хочу стать». Если не учитывать национальный колорит (один мальчик хотел преуспеть на поприще борьбы сумо, а одна девочка подумывала, не выучиться ли на гейшу), дети мечтали примерно о том же, о чем положено мечтать девятилетним. За одним исключением. Все тридцать сочинений кончались одинаково: описанием собственной смерти. Кто-то хотел романтически умереть молодым, кто-то планировал дожить до ста лет, но ни один из школьников не оставил концовку открытой. Завершение жизненного пути смертью — это естественно. Как же иначе?
Смерть в поле зрения японца с детства; она всегда — альтернатива. Что же странного, если подросток, перепробовав разные игры, пытается сыграть и в эту? Нередки случаи, когда японские дети кончают с собой из любопытства. Так, например, поступил самый юный из героев нашей книги, поэт Ока Синдзи (1962–1975), чьи талантливые стихи вышли в посмертном сборнике «Мне 12 лет». Синдзи спрыгнул с крыши и разбился. Он желал узнать — что там, после смерти. Теперь он это знает.
Всю Японию потрясло самоубийство 16-летнего школьника, который 20 ноября 1996 года «сыграл в Мисиму». На улице, прямо на глазах у прохожих, мальчик пронзил себе горло фамильным мечом, хранившимся в родительском доме. Выяснилось, что перед этим по телевизору показывали фильм «Меч», снятый по произведению Мисимы.
Однако при всей своеобычности суицидальной картины Япония отнюдь не лидирует в мире по уровню самоубийств. Привычка во всем руководствоваться этикетом и определенными правилами поведения делает жизнь человека в целом более защищенной и уютной, а теневой своей стороной — депрессией и суицидальным порывом — оборачивается лишь в экстремальных случаях, перечень которых, в общем, тоже регламентирован. Вряд ли в Японии отыщется восемьсот мотиваций самоубийства, обнаруженных исследователями Всемирной организации здравоохранения. И уж во всяком случае японцы не используют все восемьдесят три зарегистрированных ВОЗ способа самовольного ухода. Твердые правила жизни подразумевают и соблюдение правил смерти. Недавно один осакский служащий поднялся на крышу офисного здания и спрыгнул вниз. Полиция заподозрила убийство, хотя по всем приметам смерть выглядела (и оказалась) суицидом. Подозрение было вызвано «неправильным» поведением самоубийцы, человека нового поколения: во-первых, не написал предсмертной записки, а во-вторых, не оставил на краю крыши обувь. В смерть, новое обиталище, надо входить, как в дом, — разувшись.
Если перейти от японцев вообще к японцам, пишущим книги, нельзя не отметить особенность писателей этой страны: в отличие от космополитичных западных литераторов, они, во-первых, дети своей нации, а пишут книги уже во-вторых. Это объясняется автономностью и оригинальностью национальной культуры, а также «островным», монологическим складом японской ментальности. Японская литература вплоть до самого недавнего времени адресовалась не всему человечеству (как другие великие литературы), а японцам. Считалось, что иностранцы не смогут должным образом переложить ее на свой язык, да и не захотят оценить по достоинству.
Если в «Энциклопедии литературицида» японцев не так уж много, это объясняется тем, что туда включены лишь сведения за последние сто лет, когда в Японии сформировалось сословие литераторов в западном понимании. Иначе пришлось бы вспомнить всех бесчисленных воинов и чиновников феодальной эпохи, слагавших стихи и закончивших жизнь со вспоротым животом. Поскольку стихосложение входило в обязательную программу самурайского воспитания, список получился бы бесконечным. Начинать пришлось бы от одного из родоначальников самурайского сословия, доблестного Минамото Ёримасы (1104–1180), бывшего не только полководцем, но и талантливым поэтом. Его перу (то есть кисточке) принадлежит знаменитое пятистишье, написанное за минуту до харакири:
Современный японский писатель в отношении к суициду следует общенациональной традиции, да еще с поправкой на свое опасное ремесло, в этих условиях особенно рискованное. В обществе, где все делается сообща, коллективом, заниматься самой индивидуалистической из всех профессий — верная дорога к самоубийству. Писатель — тот самый торчащий гвоздь, который, по японской пословице, первым получает молотком по шляпке. Из пяти всемирно признанных японских классиков двадцатого века четверо (Акутагава Рюноскэ, Дадзай Осаму, Мисима Юкио и Кавабата Ясунари) покончили с собой, и лишь Танидзаки Дзюнъитиро благополучно умер своей смертью.
Основная причина писательского самоубийства в Японии предсказуема: круговой обороне, которую заняли разбившиеся на группы соотечественники, одиночка-литератор может противопоставить только свою творческую энергию. Когда писателю кажется, что он исписался, что магический источник иссяк, начинается депрессия и паника, выход из которой подсказывает логика национального мировоззрения. Впрочем, писательское самоубийство как результат подлинного или воображаемого творческого кризиса — явление интернациональное, а в истории японской литературы есть и трагические развязки с неповторимым «местным колоритом».
Дух коллективизма проявляется не только в обустройстве жизни, но иногда и в обустройстве смерти. Японская история знает множество примеров «коллективного» самоубийства. В эпоху феодальных междоусобиц поражение одного из враждующих кланов влекло за собой массовое харакири побежденных. Классический пример суицидной оргии — гибель рода Ходзё (XIV век). Проиграв войну, сюзерен устроил для вассалов прощальный пир, в ходе которого 870 приглашенных лишили себя жизни. Всего же в тот день самоубийство совершили 6000 самураев обоего пола. В 1944 году так же поступили защитники острова Сайпан. Они сражались с американцами до последней возможности, а потом покончили с собой (из 23000 человек уцелели лишь около тысячи гражданских).
Несмотря на давнюю и распространенную традицию коллективного альтруистического самоубийства, японским писателям такой финал несвойственен. Очевидно, сказывается «неколлективистская» профессия. Однако если в литературной истории других стран нам неизвестны случаи, когда писатель убивал бы себя «за компанию», во имя некоей массовой идеи, то в Японии такой пример есть. Талантливый Хасуда Дзэммэй (1904–1945), поэт «японской романтической школы», в гражданской жизни был скромным школьным учителем, но на войне проявил себя большим самураем, чем иные кадровые военные. Когда командир полка зачитал офицерам высочайший рескрипт о капитуляции, поручик Хасуда застрелил «изменника» и застрелился сам, тем самым присоединившись к целой когорте верноподданных патриотов, не пожелавших смириться с поражением. В отличие от европейских писателей-коллаборационистов, убивавших себя, чтобы уйти от неминуемого суда, Хасуда в политическом отношении был фигурой малозаметной и репрессий мог не опасаться. Здесь все произошло по дюркгеймовскому определению альтруистического самоубийства: поэт решил «…освободиться от своей личности для того, чтобы погрузиться во что-то другое, что он считал своей настоящей сущностью».
Не менее японским было и самое громкое из писательских самоубийств всех времен и народов — харакири Мисимы Юкио (1925–1970). Я не буду сейчас подробно останавливаться на этой эффектной истории. [28] Замечу лишь, что при всем патриотически-альтруистическом антураже спектакля, устроенного писателем, истинные мотивы его поступка, очевидно, были вполне частными, а не политическими, как представляется японским националистам.
По-самурайски свел счеты с жизнью и Мураками Итиро (1920–1975), писатель, за пределами Японии почти неизвестный. Этот литератор прожил бурную и непоследовательную жизнь: был сначала морским офицером, потом коммунистом и последователем соцреализма, а закончил ультраправыми убеждениями. Мураками хотел погибнуть вместе с Мисимой, но не сумел прорваться через кордон полиции к своим единомышленникам-путчистам. Пять лет спустя он пронзил себе горло мечом.
28
См. главу «Жизнь как роман».