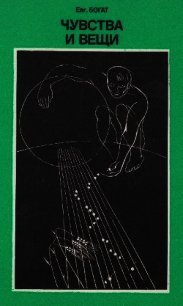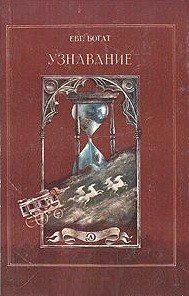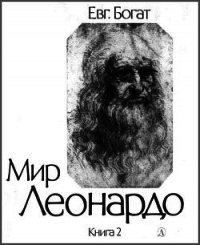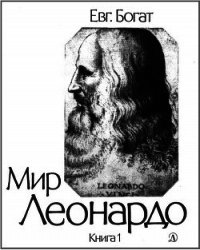Вечный человек - Богат Евгений Михайлович (книги полностью TXT) 📗
Опыт подсказывал мне, что важно задать в самом начале один бесстрашный, даже ранящий вопрос, и если тебе на него ответят, то ощутишь боль и радость рождения: живого человека, живого понимания между ним и тобой. Это уже будет твой Андерсен или твой Стендаль.
Теперь я хотел моего Рембрандта. Я хотел его настолько сильно, что осмелился задать, может быть, один из самых жестоких в жизни вопросов.
Существует более ста автопортретов Рембрандта; по мере течения лет беднее становилась его одежда, сумрачнее колорит и царственнее осанка, как и выражение лица. В самом последнем автопортрете, где образ кажется чуть размытым, точно погруженным в воду (реку забвения), нелегко узнать того, кто тридцать лет назад сидел с лихо поднятым бокалом вина и с Саскией на коленях. Видимо, последний этот портрет лепили уже непослушные пальцы, а порой кажется, что он вообще нерукотворен, что вещество, с которым руки Рембрандта имели дело долгие десятилетия, теперь, когда они ослабли, решило, как в фантастической истории Андерсена, послужить ему само. И ночами, когда больной одинокий художник видел во сне веселую Саскию в доме, наполненном редкостями и чудесами, или мальчика Титуса, рисующего у окна, милое печальное лицо Хендрикье Стофельс, а может быть, детство на мельнице, сумрачно золотую в столбе солнца пыль муки, — чудом и родился этот портрет, дар земли: равнин, холмов, ручьев и деревьев, дар неба, и моря, и добрых людей, дар мира, который он изображал без устали, когда были сильны руки. Перед этим портретом — в мировой живописи нет ничего подобного — рождается мысль, что кисть его писала сама, в нем нет мастерства, в нем нет живописи, в нем — жизнь.
Я долго не решался задать этому Рембрандту мой вопрос, легче, милосерднее было бы обратиться с ним к одному из более ранних, царственных Рембрандтов. Но может быть, те и не удостоили бы меня ответом. И я с болью в сердце, подлинной физической болью, однажды осмелился. Это был четкий вопрос о том, почему ни одна из безмерных утрат не отняла у него — ни на час! — ни вдохновения, ни мастерства? И даже, казалось, усиливались и мастерство и вдохновенье. Умирает божественная Саския, идет с молотка дом, наполненный сокровищами, от картин Рафаэля до морских диковин, навсегда уходят успех, известность, богатство, умирает любимая подруга Хендрикье Стофельс, уходят, не поняв его, или умирают собратья по кисти, умирает и Титус, единственный сын, а он пишет, пишет, ни на день, ни на час, ни на минуту не оставляя работу, и можно было бы решить, что нет у него сердца, если бы не разрывающая сердце человечность новых полотен.
Я, разумеется, понимал, что утраты и удары судьбы не могут не углубить художника, а работа, любая, утишает боль. Но ведь тут не удар, не утрата, не несчастье, а потрясающие основы жизни катастрофы, атомное опустошение. Можно сочинять музыку или писать картину под артиллерийским обстрелом, но не в Хиросиме же, когда повисла над городом убийственная молния. Молния термоядерной катастрофы повисла над судьбой Рембрандта, испепеляя саму жизнь, а он при ней, при молнии, с непревзойденным мастерством работал. Рембрандта можно поставить рядом с библейским Иовом и шекспировским Лиром, — как и они, он в безумном мире незаслуженных бедствий и невосполнимых утрат обретает мудрость. Но и Иов и Лир — фигуры легендарные, а Рембрандт совершенно реален. И обретает он мудрость не в сокрушениях сердца и не в размышлениях, а в работе. Испытывая удары, которые, если мыслить их физически, не вынесло бы ни дерево, ни камень, ни железо, он писал, писал, не останавливая работы ни на минуту. Ему удивлялись, обвиняли в бессердечии, а он пальцами, ногтями, черенком кисти лепил на холсте детей, деревья, женщин, холмы, стариков… жизнь! Он делал самое «ничтожное» возвышенным, в самом «обыкновенном» открывал тайну. И судьба, перед которой отступали и герои античных мифов, была бессильна заставить его опустить кисть.
Я хотел, чтобы последний, «размытый», будто бы написанный не Рембрандтом, Рембрандт открыл мне тайну этого мужества.
И он ответил: никто не умирал, ничего не уходило, не было утрат, была бесконечная щедрость мира. Это был жестокий ответ. Но, может быть, иной и невозможен на жестокий вопрос? И не ответил ли я себе сам раньше «размытого» Рембрандта, когда писал сейчас, что он лепил пальцами, ногтями, черенком кисти жизнь? Он, осязавший непрекращаемость бытия, бессмертие, — разве мог не ответить: никто не умирал?
Никто?! А Саския, ее пухлые детские губы, ее бездумная полуулыбка, ее руки, чуть сонные?.. Единственная Саския. Разве для любви достаточно бессмертия на полотне? Что стоит вечность, когда засыпают землей любимое лицо!
— А ты видел мое лицо, когда умерла Саския? — ответил он вопросом на вопрос.
— А как я мог его увидеть, разве вы написали себя в ту минуту?
— Да. Написал.
— Тогда я найду и увижу это лицо.
— Не увидишь, — ответил мне «размытый» Рембрандт, ведя мою мысль к тому, о чем она догадывалась и раньше, к развязке одного старого моего сомнения.
Меня давно занимала загадка одной рембрандтовской картины, ее название действительно, как и рассказывала мне Елизавета Евграфовна, менялось: раньше была она «Давидом и Авессаломом», теперь стала «Давидом и Ионафаном». Но меня волновало, разумеется, не то или иное сочетание библейских имен, а сама человеческая суть полотна и редкостная для Рембрандта особенность композиции. Мужчина в восточной одежде, с лицом скорбным и замкнутым (мы узнаем в нем самого Рембрандта) обнимает второго, судя по телесному облику, более юного, переживающего бурно то, что и вызвало их объятие: разлуку, утрату, катастрофу. Позади их мы видим фантастические очертания башни, наводящие на мысль о жестоко разбомбленном с воздуха городе, видим вечную Хиросиму. Мужчина, похожий на Рембрандта, стоит к нам лицом, — это одно из лучших, самых мужественных и горьких его автоизображений; лица же второго, бурно переживающего горе (или затихнувшего после рыданий?), не видно, оно сокрыто в тяжелых складках восточной одежды того, кто его безмолвно, отечески бережным касанием рук утешает. На моей памяти это единственная из рембрандтовских картин, человек на которой показан так, что лица его мы не видим. Обыкновенно художник показывает нам лицо человека даже тогда, когда по условиям сюжета, казалось бы, можно этого и не делать. Вот сын, вернувшись домой после долгой разлуки, падает перед отцом на колени, виновато зарывшись в его ветхую одежду. Мы видим лицо и руки отца, видим и лица очевидцев возвращения, но видим мы и лицо сына, хотя, коленопреклоненный, стоит он к нам спиной, обнажив истертые ступни ног, и мы не увидели бы, наверное, лица его, если бы в действительной жизни наблюдали событие оттуда, откуда наблюдаем его в музее, перед картиной. А сейчас видим: кисть художника чуть повернула и наклонила голову сына — Рембрандт не мог оставить человека без лица!
Почему же в «Давиде и Ионафане» он пожертвовал лицом того, кто рыдает или затих после рыданий в объятиях Рембрандта? Почему в этом полотне великий живописец отступил от закона, которому был верен в сотнях остальных?
Картина написана была в роковом для Рембрандта 1642 году, когда умерла Саския. Это объясняет скорбное и замкнутое, мужественно потрясенное лицо Рембрандта и трагический фон полотна. Но не объясняло мне долго загадки спрятанного от нас лица второго героя…
И вот я понял: если мы заставим чудом его поднять и повернуть к нам голову, то увидим тоже… лицо Рембрандта! Его второе на этой картине лицо, но откровенно потрясенное, откровенно заплаканное. Суть картины в целомудренной гордости сердца и в торжестве над судьбой. Никто в мире не увидел заплаканного лица Рембрандта — он скрыл его в складках одежды Рембрандта мужественного, умудренного горем. Но эта фигура без лица — все же один из самых потрясающих автопортретов художника.
Теперь я мог ответить на тот вопрос: видел ли я его лицо, когда умерла Саския? Видел. Между нами установились отношения откровенные и ровные, хотя в общении с ним меня ни на минуту не оставляло чувство волнения и нежности. Долгие часы мы беседовали о человеке, он рассказывал мне вещи бесконечно важные, сыгравшие огромную роль в моем понимании мира. Он помог мне лучше понять окружавших меня людей, а эти люди помогли мне понять еще полнее его полотна: он говорил о нераскрытости, о невоплощенности — в стихи, музыку, любовь, добрые дела — большинства его современников, о том, что человек в глубине несравненно богаче, чем на поверхности. По мере развития человечества это различие будет делаться все менее трагическим, и надо, чтобы оно осознавалось с каждым веком полнее. Он рассказывал мне о женщинах, которые умерли, не полюбив, или полюбили, не изведав полноты бытия, о поэтах, не написавших ни одной строки, и даже о художниках, не оставивших ни единой картины. Он рассказывал о тех, кто не создал и сотой доли того, что мог, о тех, кто не совершил того, ради чего родился. Он помогал мне почувствовать самое существенное в человеке, воспринимая с особой остротой его нерастраченность. И я лучше понимал золотой сумрак его картин, их печаль. Он рассказывал мне о сожженных рукописях и погибших полотнах, о разбитых сердцах и оборванных судьбах.