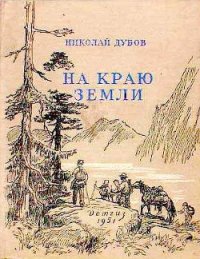Родные и близкие. Почему нужно знать античную мифологию - Дубов Николай Иванович (книги читать бесплатно без регистрации TXT) 📗
Единственным из всех друзей, с которым отношения не разладились и не охладели, был Устюгов. С самого начала он, по его выражению, «прикипел» к дому Шевелевых и появлялся там чуть ли не каждый вечер. К нему привыкли и привязались, он стал своим, почти членом семьи. Даже когда его ждала большая срочная работа, он забегал хотя бы на полчаса, рассказывал что-нибудь смешное или забавное, потом говорил: «Ну всё, я убедился, что вы здоровы и относительно благополучны, зарядился эмоциями, теперь поволоку свой живот на алтарь отечества», — и убегал. Его присутствие никому не мешало и никого не обременяло. Иногда он исчезал на неопределенный срок, потом сообщал, что был в командировке. Каким-то необъяснимым образом Варя угадывала, если это было неправдой. Однажды она понудила Шевелева поехать к нему. Устюгов предупредил, что уезжает в командировку, но оказался дома. Шевелева он не впустил, а через узкую щель приоткрытой двери объяснил, что в командировке подхватил грипп, поэтому пусть Шевелев уходит, иначе он заразится сам и заразит всю семью И пусть не беспокоятся — ему, Устюгову, ни черта не сделается, а всем необходимым его снабжают студийные ребята. Когда он, изможденный и осунувшийся, появился снова, Варя стала его упрекать за то, что он в трудную минуту прячется от друзей, отказывается от их помощи, что так с друзьями не поступают.
— Напротив! Я считаю, что во мне заложен здоровый животный инстинкт. Это люди придумали противоестественное обыкновение досаждать окружающим своими несчастьями и болезнями. У животных всё происходит несравненно благороднее. Заболевшая особь отделяется от стада и забивается куда-нибудь в глушь. Она или выздоравливает и возвращается в стадо, или умирает в одиночестве, не надрывая видом своих страданий сердца окружающих, которые всё равно не в состоянии ничем помочь. Говорят, у слонов даже есть своеобразные кладбища, о которых молодые и здоровые не подозревают, но предчувствующие свою смерть старики каким-то образом отыскивают их и уходят туда в гордом одиночестве… Не мешайте мне хотя бы иногда и хотя бы мысленно чувствовать себя слоном…
— Непременно слоном?
— Ну, не сусликом же или ещё каким-нибудь грызуном!
За все годы Шевелев считанные разы был у Устюгова. Тот к себе не зазывал и не очень привечал, если к нему приходили. В комнате у него всегда было чисто, но для стороннего глаза царил ужасный беспорядок, хотя на самом деле это был продуманный, строгий и удобный порядок, но только для самого хозяина. Не говоря уже о битком набитых стоячих и висячих полках, книги были всюду — на столе, на стульях, на тумбах выносных динамиков «Симфонии». Они не просто лежали, а были в работе — одни утыканные закладками с какими-то пометками, другие открытые с отчеркнутыми и подчеркнутыми местами. Время от времени одни убирались, на их месте появлялись другие. И повсюду лежали заметки, записи на небольших листках бумаги. Они тоже не были разбросаны как попало, а лежали в определенном порядке, понятном только самому хозяину. Каждый приход постороннего разрушал этот порядок, так как гостю негде было сесть и приходилось освобождать для него место…
И вот завсегдатай, непременный участник всего происходящего в их доме исчез. Он не приходил со дня похорон уже больше двух недель. Борис и Димка тоже не приходили. Понятное дело, обиделись. Что же, Устюгов тоже обиделся? За что ему-то обижаться? А может, он просто болен и следует его навестить? Тоже ведь не мальчик, даже года на два старше, только держит хвост пистолетом, не распускается. Да, надо проведать, мало ли что… Ближе друга у него не было и уже, конечно, не будет. Каких-нибудь тридцать лет с гаком не перечеркнешь, особенно если дружба эта родилась под огнем, в первые дни войны…
Устюгова дома не оказалось. Значит, околачивается у себя на студии или в командировке. Шевелев даже обрадовался. Разговора о смерти Вари не избежать, а он не мог сейчас вынести никаких сочувственных, сострадательных слов. Пусть и самые искренние, они только саднили бы душу, не принося облегчения.
Шевелев механически сел в троллейбус и, когда позади осталась клумба площади Толстого, понял, что едет на Байково кладбище. Он опасался, что не сумеет найти могилу — в таком тумане находился во время похорон, но оказалось, что скорбный путь врезался в память. Оборотистый сынок престиж обеспечил: ограда была из десятимиллиметрового квадрата и сверкала на солнце свежей серебрянкой. На скамеечке внутри ограды, опершись локтями о колени, сидел сгорбившийся Устюгов. Шевелев растерянно остановился.
— Не топчись сзади, — не оборачиваясь, сказал Устюгов, — всё равно я тебя уже видел.
Шевелев подошел, сел рядом и покраснел. Венков, как видно, давно уже не было, на прибранном могильном холмике лежали три свежесрезанные розы.
— Ты вот цветы принес. А у меня всё из головы вон… Впрочем, ей это уже не нужно.
Устюгов обернулся к нему, и Шевелева поразили черные круги у него под глазами и провалившиеся щеки.
— Нужно не ей, а мне. Теперь ей ничего не нужно. И никто не нужен. Однако ты вот пришел?
— Наверно, культура чувства, как ты говорил…
— Я говорил о другом… Любить умершего нельзя — его уже нет. Остается любить воспоминания о нём. И поклониться местам встречи с ним. Могила — последнее место нашей встречи.
— Ты любил Варю?
— Ну, братец, ты толстокож, как буйвол…
— И всё время молчал? Из благодарности за прошлое или из чистого благородства?
Устюгов сжал кисти рук так, что кожа на суставах побелела.
— Знаешь, — перемогаясь, сказал он, — если два старика подерутся возле могилы любимой женщины, это будет даже не смешно, а просто противно. Так что ты думай прежде, чем говорить… Увести можно дуру, кусок мяса с глазами. Или похотливую бабенку, которая привыкла ходить по рукам. А Варя была Антигоной, человеком бескомпромиссного чувства и долга… Восхищаться Антигоной хорошо, сидя в зрительном зале. Быть мужем Антигоны хлопотно и трудно. Не всякий выдержит. Ты — не выдержал.
— Ты бы выдержал?
— Не знаю. Надеюсь, что да.
— А Варя знала? Ты ей говорил?
— Нет, не говорил. Женщины всегда сами знают, когда их любят. Ей было не до меня. Рушился её мир, вместе с ним погибала она сама.
— Она что-нибудь рассказывала?
— Нет. Но я знал. Я видел, как она проходила через это. Не всегда нужно говорить, когда любят, видят и так. Впрочем, однажды она сказала. Это было в пятьдесят восьмом, когда ты в третий раз поехал в Крым. Я видел, что она в мучительной тоске, и попытался отвлечь — уговорил поехать пообедать в «Кукушку»… Вот с тех пор и ведется ваша «кукушечная» традиция, — усмехнулся Устюгов. — Я лез из кожи, чтобы как-то позабавить, развеселить её. Варя слушала и смотрела на Заднепровье. И я увидел, что по лицу её текут слезы. «Что с вами, Варенька?» — «Кажется, я скоро умру. Мне стало нечем жить». Она сказала это так просто и спокойно, как говорят при твердом, уверенном знании. Я заболтал всякую утешительно-развлекательную чепуху. Варя снизошла к моим усилиям и улыбнулась, мы выпили шампанского и потом дружно притворялись, что это была случайная обмолвка в минуту слабости. Больше она никогда об этом не говорила, но я видел, что она угасает. Димка был её последней опорой и надеждой…
— А я?
— Ты отпал давно. Ещё тогда.
— Она тебе сказала?
— Плохо же ты знал свою жену. Впрочем, ты был счастливым мужем, а счастливые не только часов, они вообще ни черта не наблюдают и не замечают…
— Но если ты видел, почему не сказал мне?
— Что бы это изменило? Ты бы начал объясняться и своими объяснениями доконал её ещё раньше… Отремонтировать можно табуретку, чувства нельзя реставрировать… Это было катастрофой для неё, но она выстояла, у неё была последняя вера и надежда — Димка. Оказалось, что ему и в него верить тоже нельзя… А она никогда не жила, не умела жить для себя. Потому ей и стало нечем жить.
— Вот тебе и ложь во спасение…
— В чье спасение? Ложь во спасение спасает только того, кто лжет. Впрочем, и его не спасает. Это всего-навсего отсрочка расплаты. Обмануть любимую женщину нельзя. Не знаю, каким образом, но рано или поздно, даже не зная, она угадывает, что перестала быть единственной…