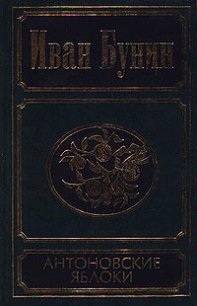Манифесты русского идеализма - Аскольдов Сергей Алексеевич (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Так находит свое объяснение отрицание сострадания у Ницше. Этика любви к дальнему, этика творчества и борьбы не может быть этикой сострадания. Если в этике любви к дальнему любовь к человечеству, так сказать, в своей статике основана, как мы видели, на своей прямой противоположности — на отчуждении от людей и презрении к ним, то в своей динамике, в качестве творчества, она также неразрывно связана со своим антиподом — разрушением; и если любовь невозможна без ненависти и вражды, то она невозможна и без жестокости: положительный и отрицательный полюсы нравственной жизни, катод и анод тока моральных чувств, взаимно поддерживают и питают друг друга. «Кто хочет быть творцом в добром и злом, поистине тот должен быть и разрушителем… Вот почему высшее зло принадлежит к высшему благу: благо же это — творческое» {51}.
По обыкновению Ницше воплощает в художественном образе учение о необходимости суровости в борьбе за «дальнее»:
«О люди, в камне спит мой образ, образ моих образов! Ах, ему суждено спать в самом твердом, самом безобразном камне!
И вот мой молот жестоко неистовствует над его тюрьмой. От камня летят куски — что мне до того?» [88] {52}
Приходится иногда прямо поражаться, как неправильно истолковываются, ко вреду для репутации Ницше и к еще большему вреду для преследуемых его учением моральных задач, многие его мысли и изречения. Кто не слышал о знаменитой жестокой фразе его: «падающего нужно еще толкать»? И однако в данном случае молва исказила не только внутреннее значение этой фразы, но вдобавок и ее самое. Послушаем же самого Ницше [89]:
«О мои братья, разве я жесток? Но я говорю вам: что падает, то нужно еще и толкать!
Все нынешнее — все это падает, погибает; кто хотел бы удержать его! Но я — я хочу еще толкать его!
Знаете ли вы наслаждение скатывать камни с крутых обрывов в глубины? — Эти нынешние люди… смотрите же, как они катятся в мои глубины!
Я — пролог для лучших игроков, о мои братья! Я — пример для них! Поступайте же по моему примеру!
И кого вы не научите летать, того научите — поскорее упасть!»
И трогательный вступительный вопрос: «разве я жесток?» и самый оборот речи в знаменитой фразе («что падает», а не «кто»), и весь контекст вместе взятый — все это ясно указывает, что здесь дело идет не о чисто личных отношениях, в которых будто бы рекомендуется толкать падающего, а о падении эпох, нравственных укладов жизни, поколений. Такое падение Ницше-Заратустра учит ускорять. Эта проповедь как нельзя более естественна, уместна и понятна в этике любви к дальнему, в этике прогресса и борьбы: мысль Ницше высказывает лишь ту аксиому всякой прогрессивной политики, что нужно поддерживать и развивать все жизнеспособное и в интересах его преуспевания ускорять гибель всего отживающего. Если в таком образе действия и остается элемент жестокости по отношению к погибающему, то это — жестокость не только необходимая, но и нравственно ценная. Прогресс «жертв искупительных просит», и кто живет для «дальнего», тот не захочет, да и не имеет права поступать так, чтобы «дальние расплачивались за его любовь к ближним».
Из тех же моральных соображений вытекают насмешки Ницше над «добротой» и «добрыми». Доброта — это та благодушная, уступчивая мягкость души, которая не совместима ни с борьбой, ни с движением вперед. Прежде, чем превратиться в невинного ребенка, — учит Заратустра, — человек должен пройти еще одну ступень: из вьючного верблюда он должен стать сильным, борющимся львом. Кто проповедует сейчас доброту и невинность, тот отрицает движение вперед, тот хочет увековечения человека на настоящей ступени его развития и ради своей невинности жертвует «дальним». У кого нет ничего выше доброты, для того добродетель лишь средство к успокоению и сну. Выслушав проповедь одного мудреца о подобной добродетельности как условии мирного и покойного сна, Заратустра иронически восклицает: «блаженны сонливые — ибо они должны скоро заснуть!» {55} Для самого же Заратустры этика доброты ненавистна, как этика застоя: «новое хочет созидать благородный и новые добродетели; старого хочет добрый и сохранения старого» {56}. Но Заратустра идет еще далее и утверждает, что идеал доброты вообще не осуществим. Где есть борьба, там нет места для доброты; и так как «добрые» также должны принять участие в борьбе, выступая против тех, кто отрицает их жизнь и добродетели, и ищет новых, — то «добрые неизбежно должны быть фарисеями» {57}: во имя своей мирной доброты они должны ненавидеть всех борцов и творцов:
«Берегись добрых и справедливых: они охотно распинают тех, кто ищет новых добродетелей, — они ненавидят одиноких.
Берегись и святой наивности! Все ей не свято, что не наивно; и охотно играет она с огнем — костров!..» {58}
«Добрые всегда — начало конца: они распинают того, кто пишет новые заповеди на новых скрижалях, они жертвуют для себя будущим — они распинают всю будущность человечества. Добрые всегда были началом конца» [90] {59}.
Так развивается антитеза моральных систем «любви к ближнему» и «любви к дальнему». Этика «любви к ближнему» развивается в этику сострадания, душевной мягкости, миролюбия, доброты и успокоения. В противоположность ей Заратустра дает нам «новые скрижали», развивая этику любви к дальнему и рисуя нравственное величие твердого и мужественного, мятежного и борющегося, вечно беспокойного и вечно стремящегося в даль человеческого духа. Пока в человеческой жизни будет существовать борьба между началами примирения и возмущения, между стремлением к сохранению старого и стремлением к созиданию нового, между жаждой мира и жаждой борьбы, — до тех пор не прекратится в человеческой душе и соперничество между этими двумя великими моральными системами…
II
Hölier als die Liebe zum Nahsten steht die Liebe zum
Fernsten und Künftigen; holier noch als die Liebe zu
Menschen gilt mir die Liebe zu Sachen und Gespenstern.
Изложенная выше этика «любви к дальнему», в ее антагонизме к этике «любви к ближнему», имеет ту особенность, что она совершенно независима от содержания самого объекта любви — «дальнего». Каково бы ни было внутреннее содержание морального идеала, требования этики любви к дальнему остаются неизмеренными, раз только этот идеал руководит человеческой деятельностью в качестве абстрактного «дальнего» и ставит человека в отношения к людям, могущие быть противопоставлены тем отношениям, которые вытекают из непосредственных чувств симпатии и сострадания к ближайшим окружающим его людям. Поэтому люди самых разнообразных миросозерцаний, даже вполне чуждых конечному идеалу Ницше, могут понимать и ценить его этику любви к дальнему, в изложенном ее значении. Таким образом антагонизм обеих этических систем, с которыми мы имели дело до сих пор, есть лишь антагонизм формальных этических принципов; одно только различие в расстоянии, отделяющем объект любви от ее субъекта, и обусловленное им различие в путях и средствах активного осуществления любви проводит резкую грань между двумя группами моральных чувствований и настроений и порождает радикальную противоположность между моральными оценками и представлениями о «добре» и «зле», образующими обе упомянутые этические системы. «Любовь к дальнему» может быть любовью к людям не менее, чем «любовь к ближнему»; и, однако же, остается огромная разница между инстинктивной близостью к конкретным наличным представителям человеческого рода, непосредственно нас окружающим, к нашим современникам и соседям («любовью к ближнему»), и любовью к людям «дальним и будущим», к отвлеченному коллективному существу «человечеству». «Любовь к дальнему» означает здесь любовь к тому же ближнему, только удаленному от нас на ту идеальную высоту, на которой он может стать для нас, по выражению Ницше, «звездой».