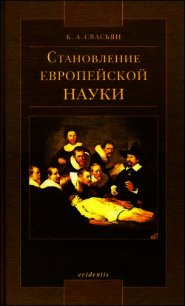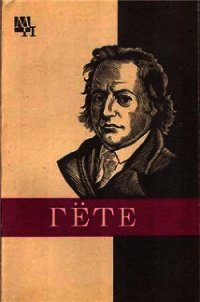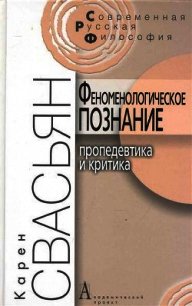…Но еще ночь - Свасьян Карен Араевич (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
Базель, 21 октября 2008
Тема «Перцев и Ницше» завершается прощанием с Перцевым и продолжается, без Перцева, как Ницше. Конкретнее: Ницше в русских переводах. У читателя не должно возникнуть ложного впечатления, будто с переводами, о которых шла речь, всё обстоит в порядке. Конечно, это не так, но, чтобы сказать, что это не так, пришлось дождаться ухода Перцева; было бы не только неуместно, но и технически невозможно, прокалывая булавкой указания на фиктивные недостатки, параллельно фиксировать действительные. Когда в 1990 году я готовил ницшевский двухтомник, в моем распоряжении были отдельные старые переводы и — целина. Мне предстояло: 1) править имеющиеся переводы, 2) параллельно делать свои, 3) писать комментарии к текстам, 4) пропадать в библиотеках, ища в тысячах страниц источники, не назвать которые мог позволить себе философствующий молотом Юпитер, но никак не мог его ответственный редактор-бык, 5) всё это в послеперестроечном Ереване, где надеяться приходилось уже не столько на наличие нужных книг в библиотеках, сколько на то, что не выключат снова, и надолго, свет; понятно, что вероятность недостатков (ошибок,
промахов, пропусков, курьезов), которые и в нормальных условиях пролезают-таки сквозь все дыры и щели, вырастала в названных условиях вдвое, если не больше; только абсолютному профану, не понимающему того, о чем он говорит, зато тем охотнее говорящему о том, чего он не понимает, могло прийти в голову требовать от перевода точности сопромата; не знаю, как сопромат, но точный (по единственности) перевод проходит, скорее всего, по ведомству «чуда» и уж никак, ни при каких обстоятельствах — «правила» . Чудо — это когда Карлейль переводит гётевского «Мейстера», Рильке Лермонтова и Валери, а Шпет «Феноменологию духа», причем, говоря о «чуде» , надо иметь в виду не отказ от понимания, а, напротив, как раз понимание невероятности случившегося: когда оригинал переводится на чужой язык так, как автор сам написал бы его, пиши он на чужом языке, а не на языке оригинала. С ницшевскими переводами в двухтомнике, увы, не произошло никаких чудес; оглядываясь, по прошествии без малого двух десятков лет, на сделанное, я тем резче и ярче фиксирую провалы: как в отредактированных чужих, так и в написанных своих переводах (не говоря уже о предисловии и комментариях, которые видятся мне сейчас, в бессильной оптике конъюнктива, совсем не тем, чем они хотели и могли бы быть). Надо прибавить сюда и выбор издания. Я работал со старым наумановским, над которым потрудились, в частности, Фриц Кёгель, братья Хорнэфферы, Петер Гаст, ну и, конечно же, «сестра» . Демон перестройки, раздающий ваучеры «нефашистской жизни» , как раз затеял свой ремонт одной шестой земного шара, и было бы иллюзией полагать, что он не потребует контрибуции и с русского Ницше, тем более что ему-то последний и был обязан воскрешением из мертвых. Свое он получил, убедив меня, что лучше старого опороченного наумановского издания может быть только дезинфицированный Шлехта, а лучше Шлехты (besser als schlecht, если скаламбурить) только связка итальянцев-марксистов Колли и Монтинари (по аналогии с Сакко и
Ванцетти, если скаламбурить еще и в последний раз). Пока я искал эти новые издания, работать пришлось со старым и только потом уже, почти с середины, переключаться на новые. В корпусе текстов это ничего не изменило (напротив, чтобы заполнить образовавшуюся щель в листаже, я даже перевел и включил в состав «Злую мудрость», которой и в помине не было, да и не могло быть, у Колли и Монтинари), зато изрядно попортило общую атмосферу презентации, о чем мне сегодня приходится сожалеть, — не потому, что я предпочитаю «нефашистской жизни» «фашистскую» , а просто потому, что считаю ту и другую одним и тем же мифом, точнее, левшой и правшой одного и того же мифа; сожаление вызвано не столько заменой одного оборотня другим, сколько запоздалым пониманием подлога, где новый, разоблачая старый, как миф, самого себя выдает за действительность. « Наконец-то: аутентичный Ницше! » На деле, всего лишь пересаженный: из прежней героической атмосферы одиночества и стояния насмерть в новую обстановку reality show, соответственно: с заменой эруптивных выбросов мысли, худо ли, хорошо ли стилизованных под некие подобия раскопок и руин, тупой хронологизированной их выставленностью, где их уже не читают, а просто застают в той же неподготовленности или неприглядности, в которой профессиональные папарацци застают звезд экрана и чего угодно. (Орел «Заратустры», долгое время простоявший в бронзе перед домом Ницше в местечке Сильс-Мария, недавно был выдворен за дом, уступив место какой-то металлической невменяемости, а другая, живая, невменяемость, барышня-гид по дому-музею, объясняет понимающе кивающим при этом посетителям, что теперь вот ничто уже не станет привлекать сюда скинхедов.)
Возвращаясь к переводам: сложность заключалась, прежде всего, в выборе таковых, если их оказывалось несколько, и уже потом в правке, притом что править приходилось чаще всего, переводя целые куски заново. Я помню, как я был удивлен, читая полиловский перевод «По ту сторону добра и зла». Полилова я знал по прекрасному переводу «Сумерек идолов» и туринского письма о Вагнере, так что, узнав о его же переводе «По ту сторону добра и зла», сразу стал искать книгу. Разочарование было полным; как будто переводил не один и тот же человек. Переделывать приходилось страницами. Аналогичное, в несколько смягченной форме, случилось и с «Заратустрой». В моем распоряжении были два перевода — Антоновского и Изразцова; поколебавшись, я отдал предпочтение Антоновскому, хотя Изразцов в ряде мест выглядел не хуже, если не лучше, но уже скоро, войдя в работу, понял, что — влип. (Между прочим, Антоновскому больше удался «Ecce Homo».) По отдельным примерам, приведенным мною в соответствующем комментарии 2-го тома, можно догадаться, как и во что влип. Но выбора не было; оставалось, грезя о собственном переводе, править этот и параллельно переводить «Веселую науку» — очень веселые темпы (первый том был сделан и сдан за несколько месяцев), впрочем, вполне понятные, если представить себе прорвавшуюся плотину. Я говорю это никоим образом не в оправдание недостатков сделанного, а с оглядкой на «смягчающие обстоятельства» , учесть которые коллегам, надеюсь, будет не труднее, чем судьям, выносящим приговор. Недостатки стали всплывать позднее; особенно при подготовке текста «Веселой науки» для нового (полного) издания Ницше в издательстве «Культурная революция». Там решили взять мой перевод, и редактор И. Эбаноидзе (еще один «русскоязычный» ), тщательно сверяя его с оригиналом, присылал мне по частям текст вместе со своими замечаниями; спектр колебался между относительно мелкими штрихами по части « сделать лучше» и кричащими ляпсусами. Нескольких примеров, я думаю, будет достаточно. Так, вместо неотесанного моего: «делает дух невосприимчивым к новым соблазнам» , появилось нормальное: «заставляет дух упрямиться новым соблазнам» . Ужасные в моей передаче «различные подразделения дня» (die verschiedenen Einteilungen des
Tages) преобразились, к счастью, в «различия распорядков дня» . Умный садовник, проводивший у меня «скудную водичку своего сада через руку какой-нибудь нимфы» , нашел, по редактировании, лучшее применение своему уму, заставляя «скудную водичку своего сада изливаться через руку какой-нибудь нимфы источника» . Нелепый пропуск в заголовке «Великодушие и сродни ему» был выправлен вставкой «всё что сродни» . «Породистые» животные стали тем, чем были: «покладистыми» . Вместо буквальной и оттого малопонятной: «бабочки-миг» появилась прекрасная и единственно уместная «бабочка-мгновение» . Наконец, позорная описка «землетрясильный» (замеченная даже Перцевым) была немедленно убрана, и восстановлено «землетрясительный» . Вопрос не в том, что с каждой новой редакцией будут вылезать всё новые и новые подлости; вопрос в том, сколько же раз и сколькими сведущими людьми должен быть просмотрен перевод, чтобы озорные чертята, подкладывающие свинью, с отчаянья плюнули на зануд и пошли к чёрту!