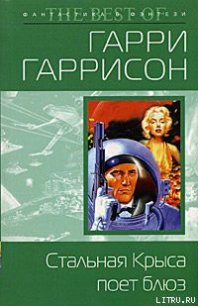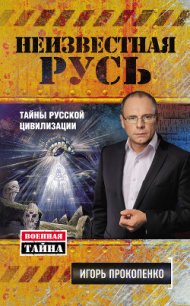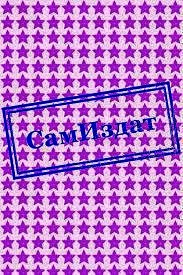Оберег - Гончаров Александр Михайлович (читать книги онлайн полностью txt) 📗
Когда разыскал дом Савелия, своего дедоватого, и подал ему фотографию его «пестуна» Игната, тот прослезился и поцеловал портрет; поцеловал по очереди портреты бабушки и моих родителей. Силён, кто не прячет слез, когда хочется плакать…
Ради моего приезда Савелий зарезал свинью. Он подходил к ней медленно, высокий, сутуловатый, похожий на горбатый топор, а несчастное животное, ничего не подозревая, чавкало себе свеклой… Попробовав лезвие ногтем, он переложил нож в левую руку, правой перекрестился. Так же делал дед Игнат, когда резал свиней: нож — в левой, правой крестится. Потом удар, кровь и пронзительный крик на всемогущем языке матери-смерти, понятном всему живому, и бабушкин шепот перед иконой, и я утыкаюсь ей в передник, под теплые ласковые руки, пахнущие топленым молоком. Зачем Бог создал свиней? Чтобы их резали и ели? Кто ему ближе — свинья, у которой все внутренние органы такие же, говорят, как у людей, или человек, который крестится, чтобы ловчее убить? За что приносят свинью в жертву нашей алчности?
Но вот на сковородке шкворчит сало («почерёвка»), и вопросы исчезают… Ух, как наедался в такие дни. Как свинья! И даже перекреститься за столом забывал…
Днем гулял по хутору. Попадались прохожие, всматривались в меня. А я — в них. Мы угадывали друг друга… До чего же все они похожи на родню: на деда, на отца, на Савелия, на меня — один генотип! Или как там?..
Встретил у хуторского магазина тех парней, которые приставали в «клубе». Они были уже пьяные — и это в середине буднего дня! Ничего не делали — пили пиво! Смерили меня презрительными взглядами и отвернулись. Демон-стра-тив-но.
— Фрайер! — услышал вослед.
Боже, и это — казаки?!
Перед вечером, на заре, купался в Дону. Прямо напротив меловых столбов — «на ты, на вы, на ваше высочество». Вода в реке редкая, слоистая, словно из шелковых волокон. В ней, подобно газу в лимонаде, растворено какое-то электричество, которое сбегает меж пальцев, смывает что-то с лица, а еще — усталость и прожитые годы, покалывает бодряще, пощипывает, — и наверное, от этого не чувствуется холода. А уже холодно. Конец августа, не шутка. Это у нас август — начало весны, а тут — конец лета. Но я окунался в воду и окунался — ух! ух! — и не от холода, а от чего-то другого захватывало дух. А я купался и купался, и не мог накупаться… Пытался наловить раков. Дед рассказывал — ловили ведрами. Ни одного не поймал. О, сколько слышал от деда об этой реке, о меловых склонах, о розовых тальниках, о песке, зернистом и белом как сахар, о шелковистой воде, — сколько раз мечтал увидеть это, и вот я тут, среди русоволосых людей, среди родни, и сено под боком пахнет остро — чем? чабрецом? донником? — так что же со мною творится? Чего не хватает? Почему нерадостно? Почему о другом болит душа? О другой воде, о другом солнце, о других травах и о других людях…
Да потому что — дедова это родина! Дедова — не моя! А моя — хоть режьте! — Аргентина, черноголовая, черноглазая — там сейчас, в августе, начинается весна, скоро зацветут вербены, бородачи будут трясти зелёными бородами, — краснокожая, латиноамериканская страна, не понятая и не принятая дедом, старшим урядником Лейб-Гвардии Атаманского полка…
Он всю жизнь был бравым казаком, хотя перед самой смертью вдруг заговорил как слепой сказитель гаучо из пампы:
— Когда-нибудь на железных стеблях лопнут стеклянные плоды; когда-нибудь мычание моторных стад захлебнется; когда-нибудь все каменные громады станут надгробиями, и лишь ветер будет петь печальные псалмы среди развалин… Это случится, и случится обязательно, ибо люди забыли в гордыне о своем предназначении и растеряли в суете земной образ Божий.
С утра дед сходил в парикмахерскую. Он любил иметь дело с парикмахерами. Торжественно, выпрямившись, ждал очереди, потом, покрытый белой простыней, важно восседал в кресле, поворачивая голову влево, когда просили, вправо, надувал, если нужно, щеки. Домой возвращался степенно, с непокрытой головой, блестящей и приглаженной, с таким выражением лица, словно на макушке у него выкосили луг… В тот день он сходил в парикмахерскую, вернулся домой, источая благоухание, с воинственно торчащими усами, сел на оттоманку, проговорил эти неожиданные для него слова, потом лег, вытянулся и умер.
Когда свежесть накрахмаленной простыней опустилась на луг, на реку, на кусты и воду, когда началась перекличка хуторских петухов с поездами на дальнем мосту, и я уже засыпал — вдруг услышал треск сучьев.
Кто-то упорно ломился сквозь сухой бурьян. То ли зверь, то ли…
— Кто там?
Треск прекратился. Послышалась возня, приглушенный шепот. Мир показался гнусен, как чужая неприбранная постель… И бежать некуда, позади — река.
— Кто там?..
— Это мы… фрайерок.
Странно, но страх сразу исчез. Рука плотно легла на холодную ребристую рукоять. Кинжал из отличной крупповской стали.
— Мы к тебе, козлик!
Жало можно не пробовать ногтем, оно острое как бритва.
— Я жду вас… шакалы!
Перебросил кинжал из правой руки в левую и перекрестился. Отметил, что тень моя похожа на занесенный горбатый топор…

Вавилонская проказа
Декабрь 1999 г.

ПРИГОВОРЕННЫЙ
Они налетели на хутор Ногайский на рассвете, по-волчьи налетели, подкравшись скрытно. Видно, проспали караульные. Всё было кончено за полчаса. Три десятка выстрелов, гик, визг, храп лошадей, и вот Мишка вместо теплой хаты очутился в сыром грязном сарае. Все спросонья дрожали, жались друг к другу и к большой навозной куче, возвышавшейся прямо посреди сарая. От кучи тянуло теплом.
Сквозь щелястую дверь сарая было видно, как занималось апрельское, сиреневое, ветреное утро. По сизоватому небу скользили влекомые свежим апрельским ветром по-бирючьи поджарые тучи, ветер играл, гремел коробочками дикого хмеля, метелками, будыльями прошлогоднего старюки-бурьяна, торчавшего вдоль плетня, он шумел в ветвях лозин, налившихся почками, и чудились в его порывах вой, плач, стон, и оттого не было на душе отрады.
Вдруг провисшая дверь сарая приоткрылась, и в проеме появилось чернобровое лицо тетки Аксютки, хозяйки хаты, в которой они квартировали. Еще вчера Мишка расспрашивал ее о первой любви, о деде Пантелее, который привез когда-то из туретчины себе жену, ее бабку, и о котором по округе ходили всевозможные легенды.
— Мишаня! — позвала она, отстраняя нахального охранника локтем, и поманила Мишку пальцем. Мишка поднялся с теплой кучи и прошел к двери. Ребята из его взвода похлопали по угловатому юношескому плечу: не дрейфь! Тетка Аксютка приобняла его и провела в хату, показавшуюся после сарая теплой и очень чистой. В горнице, за столом, за которым еще вчера Мишка корпел над своими записями, кто-то подшивался, а кто-то чинил обмотки или башмаки, сейчас за столом сидел маленький человек, которого все называли «батькой»; он был с землисто-желтым, начисто выбритым лицом, с впалыми щеками, с черными длинными прядями, спадавшими на вздёрнутые плечи, в суконной черной пиджачной паре, барашковой белой папахе и высоких, выше колен, вроде как женских, сапогах со шпорами, — он напоминал переодетого монастырского служку, добровольно заморившего себя постом. Небольшие темно-карие глаза со стальным острым взглядом, глаза как бы всё знающие и раз навсегда покончившие со всеми сомнениями, вызвали у Мишки безотчетное содрогание, по спине пробежали крупные мурашки. Мишка остановился у порога, встал и батька из-за стола. И когда встал, его тщедушная фигура показалась внушительной, и почудилось, что это и не человек вовсе, а сгусток страшной энергии, клубок импульсов, чудовищных страстей, которые бешено кипят в нем и которые он сдерживает железной уздой воли и прячет под холодной и жестокой, безучастной маской.