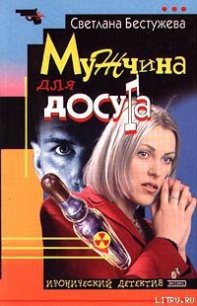У войны не женское лицо - Алексиевич Светлана Александровна (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью TXT) 📗
«Требовался солдат… А хотелось быть еще красивой…»
То, о чем эта глава, как будто уже было, потому что о чем бы женщины ни говорили, они невольно вспоминали и о наивных девичьих ухищрениях, своих маленьких секретах, как даже в «мужском» быте войны, в «мужском» деле войны старались не изменить своей женской природе, своему женскому естеству. Но раньше они рассказывали об этом вскользь, часто отбрасывая как не главное, а сейчас будут откровеннее и подробнее. Что такое быт на войне? Там даже бытом его не назовешь, скорее, бытием, потому что слишком рядом было небытие. Но человек не может жить только войной, страхом смерти, а тем более женщина. Не раз я замечала, что женщины даже по прошествии почти сорока лет сохраняли в памяти большое количество мелочей военного быта, которые, как признавался муж одной из моих героинь, тоже фронтовик, он забывал в тот же день или через день, а уж во всяком случае не носил в памяти десятки лет. Женщина же сберегала. Видно, потому, что для нее, дающей жизнь, прелесть бытия самоценна. Неизбывна даже в кромешном аду. Она и там хотела остаться женщиной и должна была остаться женщиной.
Из воспоминаний Марии Николаевны Щелоковой, сержанта, командира отделения связи:
«Жили в земле, как кроты. Но какие-то безделушечки у нас, весной веточку принесешь, поставишь. Посмотришь на все и подумаешь: а ведь завтра тебя может и не быть. И запоминаешь-запоминаешь… Девочке одной прислали из дому платьице шерстяное. Мы завидовали, хотя носить свое платье не разрешалось. А старшина, что значит мужчина, ворчал: „Лучше бы тебе простынку прислали, полезнее“. У нас простыней не было, подушек не было. Мы спали на ветках. А у меня были припрятаны сережки.
Когда меня первый раз контузило, я не слышала и не говорила. Сказала Себе: если не восстановится голос, брошусь под поезд… Я так пела, а вдруг голоса нет. Но голос вернулся.
Счастливая я, сережки надела. Прихожу на дежурство – кричу от радости:
– Товарищ старший лейтенант, докладывает дежурная такая-то…
– А это что?
– Как что?
– Вон отсюда!
– В чем дело?
– Немедленно выдернуть сережки! Что это за солдат!..
Старший лейтенант был очень красивый. Все наши девчонки были в него немножко влюблены. Он нам говорил, что из нас требуются солдаты и только солдаты. Нужен был солдат… А хотелось быть еще красивой… Я всю войну боялась, чтобы не попало в ноги, не покалечило. У меня красивые были ноги. Мужчине – что? Ему не важно, если даже попадет. А женщину покалечит, так это судьба ее решится».
Рассказывает военный хирург Вера Владимировна Шевалдышева:
«…Присутствие женщин облагораживало мужчин. Если ты где-то появляешься, у них светлеют лица. Например, ни узнают, что санинструктор будет делать медицинский осмотр, – стараются вычистить свою одежду, землянку уберут. Я всю войну улыбалась, я считала, что должна улыбаться как можно чаще, что женщина должна светить. Перед отправкой на фронт старый профессор нам так говорил: „Вы должны каждому раненому говорить, что вы его любите. Самое сильное ваше лекарство – это любовь. Любовь сохраняет, дает силы выжить“. Лежит раненый, ему так больно, что он плачет, а ты ему: „Ну, мой миленький. Ну, мой хорошенький…“ – „Ты меня любишь, сестричка?..“ (Они нас всех, молоденьких, звали сестричками.) – „Конечно, люблю. Только выздоравливай скорей“. Они могли обижаться, ругаться, а мы, медперсонал, никогда. За одно грубое слово у нас наказывали вплоть до гауптвахты.
А все же на войне женщине трудно, очень трудно. Даже вот в юбке залезть на машину, кода одни мужчины кругом. А грузовики высокие, специальные санитарные машины. Заберись на самую макушку!»
Надежда Васильевна Алексеева, рядовая, телеграфистка:
«Дали нам вагоны. Нас двенадцать девчонок, остальные все мужчины. Десять – пятнадцать километров проедем, и поезд стоит. Десять – пятнадцать километров… Опять нас в тупик…
Мужчины разложат костер, трясут вшей, сушатся. А нам где? Побежим за какое-нибудь укрытие, там и раздеваемся. У меня был свитерочек вязаный, так вши сидели на каждом миллиметре, в каждой петельке. Посмотришь, затошнит. И что делать? Не буду же я вместе с мужчинами вшей жарить. Стыдно. Выбросила свитер и осталась в одном платьице. На какой-то станции чужая женщина вынесла мне кофточку, туфли старые.
Долго ехали, а потом еще долго шли пешком. Был мороз. Я шла и все время держала зеркальце: не обморозилась ли? К вечеру вижу, что обморозила щеки. До чего глупая была… Слышала, что когда обморозишь щеки, то они белые. А у меня красные-красные. Думаю, что пусть бы они всегда у меня были обмороженные. А назавтра они почернели».
«По девятнадцать лет нам было, – вспоминает Анастасия Петровна Шелег, младший сержант, аэростатчица. – Девчонки! Пошли в баню, а при бане парикмахерская работала. Ну и друг на дружку глядя, брови все покрасили. Как дал нам командир: „Вы воевать или на бал приехали?“ Всю ночь плакали, оттирали. Одна наша девчонка, помню, курить решила. Командир заметил, на гауптвахту посадил. Очень строгий был».
На войне как на войне. Иной спрос, иная мера самоотдачи, мобилизованности душевной. Каково же им, семнадцатилетним-восемнадцатилетним, было преодолевать в себе женское и от детско-юных впечатлений переключиться сразу на высокое, чисто мужское понимание долга?
Этот вопрос на встрече выпускников военно-инженерного училища я задала Станиславе Петровне Волковой. В войну у нее была сугубо мужская работа – минировать и разминировать дороги, проходы на минных полях, здания. К тому же она была не рядовой сапер, а командир саперного взвода. Женщин-командиров саперных взводов был только один выпуск в сорок втором году: набрали восемьдесят человек, окончили училище семьдесят пять. Все попросились на фронт.
Станислава Петровна Волкова, лейтенант, командир саперного взвода:
«Когда попала в училище, там сразу военная дисциплина: и на учении, и в строю, и в казарме – все по уставу. Поблажек нам как девушкам никаких не было. Только и слышалось: „Прекратить разговор!“, „Разговорчики!“ Вечером рвешься посидеть, повышивать… Ну, что-то женское сделать… Не разрешалось ни в коем случае. А мы остались без дома, без домашних хлопот, и было как-то не по себе…
Давали только час отдыха: сидели в ленинской комнате, писали письма, можно было постоять вольно, поговорить. Но ни смеху, ни громкого крика – это было не положено.
– Песню можно было спеть?
– Нет, нельзя.
– А почему нельзя?
– Не положено. Вот в строю иди, пой, если дадут команду. Команда: „Запевала, запевай!“
– А так нельзя?
– Нельзя. Это не по уставу.
– Трудно было привыкать?
– Мне кажется, я к этому и не привыкла. Только успеешь уснуть, вдруг: „Подъем!“ Как ветром сдувает нас с постелей. Начинаешь одеваться, а у женщин одежек больше, чем у мужчин, то одно летит из рук, то другое. Наконец ремень в руки – и бегом к раздевалке. На ходу хватаешь шинель и мчишься в оружейную комнату. Там надеваешь чехол на лопату, продергиваешь через ремень, надеваешь подсумок на него, кое-как застегиваешься. Хватаешь винтовку, на ходу закрываешь затвор и с четвертого этажа по лестнице буквально скатываешься вниз. В строю приводишь себя в порядок. И на все на это даются считанные минуты.
А это уже на фронте… Сапоги у меня на три размера больше, загнулись, пыль в них въелась. Хозяйка принесла два яйца: „Возьми в дорогу, такая худенькая, что скоро переломишься“. А я тихонько, чтобы она не видела, разбила эти два яйца, они маленькие были, и почистила сапоги. Конечно, хотелось есть, но победило женское – хотелось быть красивой.
Теперь на наши встречи только одна всегда приезжает в военной форме. Только она ее сохранила, больше никто. Вы не знаете, как шинель трет, какое это все тяжелое, какое это все мужское: и ремень, и все. Особенно я не любила, что шинель шею трет, и еще эти сапоги. Шаг менялся, все менялось».
Было и смешное, веселое, но все равно трудное.