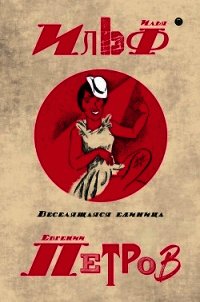Фельетоны, статьи, речи - Ильф Илья Арнольдович (книга жизни .TXT) 📗
И, конечно же, еще, еще и еще раз, опять и снова не подготовились к лету, не учли этого кошмарного времени года. Обо всем помнили — о распределении отпусков (еще осенью со страшными криками делили июни — июли будущего года, предусмотрительно оставляя августы — сентябри для ответ— и приветработников), помнили о заседаниях, о кружках самодеятельных балалаечников, о юбилеях и проводах, о семейно-товарищеских вечеринках, — только о лете забыли, забыли о светлых, легких, разнообразных одеждах для покупательской массы.
Что это значит, товарищи? Ау! Местком спит? Или нарком спит? В общем, кто спит? А может быть, и тот и другой?
Когда это кончится?
Счет большой. В то время как во всех областях промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, во всей жизни страна делает поразительные успехи, показывает всему миру, на что способен пролетариат, в области одежды нет успехов, стоящих на уровне даже теперешних запросов. А ведь надо думать еще о запросах завтрашнего дня. Великолепная заря этого завтра уже сейчас освещает наше бытие. Но даже не видно подлинного, непоказного стремления достичь этого уровня.
Пусть пиджак не будет узок в плечах — его противно носить. Пусть бантики не изобретаются в канцеляриях — канцелярские изобретения не могут украсить девушку. Надо помнить, что если жизнь солнечная, то и цвет одежды не должен быть дождливым. Давайте летом носить хорошо сшитые белые брюки. Это удобно. Покупательская масса заслужила эту товарную массу.
Вот мы горевали, беспокоились о ватном товаре. Не знали, какой выход найдет Наркомлегпром. Есть уже выход, нашелся. Оказывается, не надо гнать маршруты с пальто в Якутию. Устроились проще. Закупили на тридцать миллионов рублей нафталина. Теперь ватный товар спокойно будет лежать под многомиллионным нафталиновым покровом до будущего 1935 года. И моль печально будет кружиться над неприступными базисными складами, с отвращением принюхиваясь к смертоносному запаху омертвленного капитала.
1934
Любовь должна быть обоюдной
Весной приятно поговорить о достижениях. Деревья, почки, мимозы в кооперативных будках — все это располагает. В такие дни не хочется кусать собратьев по перу и чернилам. Их хочется хвалить, прославлять, подымать на щит и в таком виде носить по всему городу.
И — как грустно — приходится говорить о недостатках. А день такой пленительный. Обидно, товарищи. Но весна весной, а плохих книг появилось порядочно — толстых, непроходимых романов, именинных стишков, а также дохлых повестей. Дохлых по форме и дохлых по содержанию.
Чем это объяснить?
Вот некоторые наблюдения.
В издательство входит обыкновенный молодой человек со скоросшивателем в руках. Он смирно дожидается своей очереди и в комнату редактора вступает, вежливо улыбаясь.
— Тут я вам месяц назад подбросил свой романчик…
— Как называется?
— «Гнезда и седла».
— Да… «Гнезда и седла». Я читал. Читал, читал. Знаете, он нам не подойдет.
— Не подойдет?
— К сожалению. Очень примитивно написано. Даже не верится, что автор этого произведения — писатель.
— Позвольте, товарищ. Я — писатель. Вот пожалуйста. У меня тут собраны все бумаги. Членский билет горкома писателей. Потом паспорт. Видите, проставлено: «Профессия — писатель».
— Нет, вы меня не поняли. Я не сомневаюсь. Но дело в том, что такую книгу мог написать только неопытный писатель, неквалифицированный.
— Как неквалифицированный? Меня оставили при последней перерегистрации. Видите, тут отметка: «Продлить по 1 августа 1934 года». А сейчас у нас апрель, удостоверение еще действительно.
— Но это же, в общем, к делу не относится. Ну, подумайте сами, разве можно так строить сюжет? Ведь это наивно, неинтересно, непрофессионально.
— А распределитель?
— Что распределитель?
— Я состою. Вот карточка. Видите? А вы говорите — непрофессионально.
— Не понимаю, при чем тут карточка?
— Не понимаете? И очень печально, товарищ. Раз я в писательском распределителе — значит, я хороший писатель. Кажется, ясно?
— Возможно, возможно. Но это не играет роли. Разве так работают? В первой же строчке вы пишете: «Отрогин испытывал к наладчице Ольге большого, серьезного, всепоглощающего чувства». Что это за язык? Ведь это нечто невозможное!
— Как раз насчет языка вы меня извините. Насчет языка у меня весьма благополучно. Всех ругали за язык, даже Панферова, я все вырезки подобрал. А про меня там ни одного слова нет. Значит, язык у меня в порядке.
— Товарищ, вы отнимаете у меня время. Мы не можем издать книгу, где на каждой странице попадаются такие метафоры: «Трамваи были убраны флагами, как невесты на ярмарке». Что ж, по-вашему, невесты на ярмарках убраны флагами? Просто чепуха.
— Это безответственное заявление, товарищ. У меня есть протокол заседания литкружка при глазной лечебнице, где я зачел свой роман. И вот резолюция… Сию минуточку, я сейчас ее найду. Ага! «Книга „Гнезда и седла“ радует своей красочностью и бодрой образностью, а также написана богатым и красивым языком». Шесть подписей. Пожалуйста. Печать. И на этом фронте у меня все благополучно.
— Одним словом, до свидания.
— Нет, не до свидания. У меня к вам еще одна бумажка есть.
— Не надо мне никакой бумажки. Оставьте меня в покое.
— Это записка. Лично вам.
— Все равно.
— От Ягуар Семеныча.
— От Ягуар Семеныча? Дайте-ка ее сюда. Да вы присядьте. Так, так. Угу. М-м-мда. Не знаю. Может быть, я ошибся. Хорошо, дам ваши «Гнезда» прочесть еще Тигриевскому. Пусть посмотрит. В общем, заходите завтра. А примерный договор пока что набросает Марья Степановна. Завтра и подпишем. Хорошее там у вас место есть, в «Седлах»: Отрогин говорит Ольге насчет идейной непримиримости. Отличное место. Ну, кланяйтесь Ягуару.
«Гнезда и седла» появляются на рынке в картонном переплете, десятитысячным тиражом, с портретом автора и длинным списком опечаток. Автор ходит по городу, высматривая в книжных витринах свое творение, а в это время на заседании в издательстве кипятится оратор:
— Надо, товарищи, поднять, заострить, выпятить, широко развернуть и поставить во весь рост вопросы нашей книжной продукции. Она, товарищи, отстает, хромает, не поспевает, не стоит на уровне…
Он еще говорит, а в другом издательстве, перед другим редактором стоит уже другой автор.
Новый автор — в шубе, с круглыми плечами, с громадным галалитовым мундштуком во рту и в бурках до самого паха. Он не тихий, не вкрадчивый. Это бурный, громкий человек, оптимист, баловень судьбы. О таких подсудимых мечтают начинающие прокуроры.
Он не носит с собой удостоверений и справок. Он не бюрократ, не проситель, не нудная старушка из фельетона, пострадавшая от произвола местных властей. Это пружинный замшевый лев, который, расталкивая плечами неповоротливых и мечтательных бегемотов, шумно продирается к водопою.
Его творческий метод прост и удивителен, как проза Мериме.
Он пишет один раз в жизни. У него есть только одно произведение. Он не Гете, не Лопе де Вега, не Сервантес, нечего там особенно расписываться. Есть дела посерьезней. Рукопись ему нужна, как нужен автогенный аппарат опытному шниферу для вскрывания несгораемых касс.
То, что он сочинил, может быть названо бредом сивой кобылы. Но это не смущает сочинителя.
Он грубо предлагает издательству заключить с ним договор. Издательство грубо отказывает. Тогда он грубо спрашивает, не нужна ли издательству бумага по блату. Издательство застенчиво отвечает, что, конечно, нужна. Тогда он вежливо спрашивает, не примет ли издательство его книгу. Издательство грубо отвечает, что, конечно, примет.
Книга выходит очень быстро, в рекордные сроки. Теперь все в порядке. Автогенный аппарат сделал свое дело. Касса вскрыта. Остается только унести ее содержимое.
Сочинитель предъявляет свою книгу в горком писателей, заполняет анкету («под судом не был, в царской армии был дезертиром, в прошлом агент по сбору объявлений, — одним словом, всегда страдал за правду»), принимается в союз, получает живительный паек. Вообще он с головой погружается в самоотверженную работу по улучшению быта писателей. Он не только не Сервантес, он и не Дон-Кихот, и к донкихотству не склонен. Первую же построенную для писателей квартиру он забирает себе. Имея книгу, членство, особый паек, даже автомобиль, он обладает всеми признаками высокохудожественной литературной единицы.