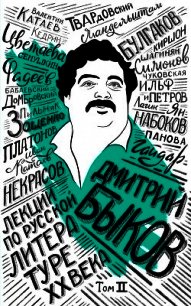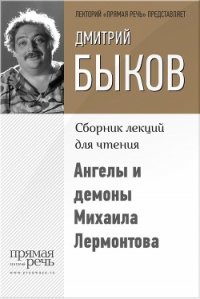Песнь заполярного огурца. О литературе, любви, будущем - Быков Дмитрий (читать книги онлайн без .TXT) 📗
5. Гастарбайтеры не имеют права зачисления во внутренние враги, каковой статус присваивается лишь после приобретения прописки.
6. Вечный российский вопрос «Где деньги?» перестает иметь какое-либо значение. Денег будет завались. Весь внешний мир обязан содержать Россию за великие былые заслуги и за гарантированное международными договорами воздержание от новых заслуг. Важным источником денежных средств станет официальная плата иностранных государств за отправку к ним всех выпускников средних школ, чей IQ превышает так называемый госмаксимум, т. е. 100. Таким образом утечка мозгов станет наконец важной доходной статьей.
7. Никакого разоружения! Напротив, производство и применение вооружения становится излюбленным хобби большей части населения. Все производственные площади, а также значительная часть регионов Крайнего Севера и тайги, согласно международным договорам, отдается под ядерные полигоны. Внешнее применение ядерного оружия исключается по секретному приложению, о котором население не знает. Регулярные ядерные взрывы становятся лучшим средством национальной психотерапии. Почетных пенсионеров, пребывающих на пенсии 30 и более лет, можно поощрить личным нажатием на кнопку с последующим прослушиванием стонов зараженных и раненых из американских кинофильмов соответствующей тематики.
8. При выходе на пенсию каждому пенсионеру вручается телевизор без кнопки «Выкл.», круглосуточно подключенный к сети электропитания. Попытка отключения телевизора карается запретом на получение пайка.
9. Почетный пенсионер имеет право избирать и быть избранным, приобретать и потреблять алкоголь, выезжать за границу и посещать страны, официально уничтоженные ядерным взрывом. Конечно, в его мозгу может возникнуть определенный когнитивный диссонанс, но с высокой долей вероятности ему будет уже все равно.
10. Глава государства выходит на почетную пенсию в момент инаугурации и остается в должности вплоть до физического исчезновения. Журнал «Русский пионер» переименовывается в журнал «Русский пенсионер» и становится единственным бумажным СМИ, а также единственным местом работы для членов правительства, которые, если захочется, пишут и зачитывают вслух веселые колонки. Их обязанности в это время исполняют гастарбайтеры, поощряемые пропиской.
Автор убежден, что кандидат с такой программой будет избран пожизненным президентом России. В случае его успеха для себя я желал бы только одного – права пожизненного лишения телевизора с сохранением прописки с правом ежемесячной колонки в журнале «Русский пенсионер» и зачтения ее при одновременном потреблении пайка.
Отчуждающие
Мы были знакомы пять дней, и вышло так, что ей надо было ехать на родину, в южный город, который всегда у меня ассоциировался с помидорами, сушеной рыбой, провинциальной пылью и с одним поворотом на пути из Крыма: прямо было на Запорожье, а направо – на него. Я тогда еще каждый год ездил на машине в Крым, во что теперь трудно поверить, и верный «жигуль» меня ни разу не подводил, и каждый раз, возвращаясь из Гурзуфа, я думал об этом южном пыльном городе как об утраченной возможности. Свернуть бы, продлить отпуск – тоже ведь у моря! Но ни разу не свернул, а то бог знает, как бы все обернулось. Там однажды в полуголодной молодости был мой дед, и запомнились ему поэтому только помидоры и сушеная рыба. Может быть, он там и трахнул кого-нибудь, и мне встретилась теперь дальняя родственница, потому что такая полнота совпадений, такая страшная тяга – всей кожей к чужой коже – бывает или во сне, или, говорят, при инцесте. То есть не говорят, а пишут – у любимой английской сочинительницы был рассказ о том, как героиня отдается однокласснику отца, не подозревая, что он и есть настоящий биологический отец. Я должен процитировать наизусть, как там это выглядит, потому что зачем же пересказывать?
«Время перестало существовать. Все дело в химическом сродстве тел, вернее, их оболочек – человеческой кожи. Они либо сочетаются и сплавляются в единую ткань, растворяясь друг в друге и обновляясь, либо ничего не происходит, как при неисправной проводке. Но когда механизм срабатывает – а сегодня он сработал, – тогда раскалывают небо стрелы, пылают леса… И пусть я проживу до девяноста лет, выйду замуж за очень славного человека, рожу пятнадцать детей, завоюю всяческие театральные призы и «Оскары», второй такой ночи у меня не будет – не брызнет осколками мир, не сгорит у меня на глазах. Но как бы там ни было, я это испытала».
Три ночи она сопротивлялась, на четвертую сдалась, а могла бы не сдаваться – я не почувствовал никакого утоления; невозможно было насмотреться, наобниматься, натрогаться – при том, что, клянусь, внешне там не было ничего особенного. Интересно было только, что она на меня смотрела снизу вверх, с некоторым испугом и выжидательно, и призналась потом, что очень хотела понравиться и притом страшно боялась этого. Я совершенно точно помню, после какой реплики начал к ней присматриваться и как, собственно, пробежала первая искра – это когда я внимательно вгляделся в глаза, увидел, как они меняют цвет, какие они темно-синие, черные с синими искрами, как мартовская ночь, первая ночь с теплым ветром, с разрывами синевы в тучах; чернильные глаза, как их еще называют, цвета синих чернил моего детства. Дальше все очень быстро шло по нарастающей, и больше всего меня в ней поражала доброта, ненавистное человеческое качество: ненавистное именно потому, что я его почти никогда не встречал и решил от греха подальше возненавидеть по принципу «зелен виноград». Она была очень молода, очень добра, очень отважна – средоточие всех совершенств, короче; она не боялась подставляться, не смотрела на себя со стороны ненавидящим взглядом, полностью мне доверяла, была абсолютно естественна, не стеснялась собственного тела, с абсолютной откровенностью рассказывала обо всех печалях своего детства, без которых не получается нормального человека, – о травлях, страхах, маниях, идиотских суицидных мыслях, школьных предательствах, а больше ей почти и не о чем было рассказывать. И четыре дня мы проболтались по Москве, по всем моим родным местам, и оказалось, что мне почти нечего было ей рассказывать в ответ, потому что я немедленно все забыл, как забываешь армейский рацион после того, как впервые после дембеля пообедаешь дома. Ну я, по крайней мере, так устроен. Это, может быть, особое милосердие памяти. Я даже забыл начисто, с какого хлеба и на какой квас перебивался без нее. Мне казалось, что я в жизни уже никого серьезно не захочу, что возраст, пора, в конце концов. Но до этого, как выяснилось, было далеко, а просто я слишком долго довольствовался суррогатами, полужизнью, компромиссом. И я все это забыл. И невозможно было представить, что я буду спать без нее с чужими людьми, с другим человеком. К счастью, у меня были тогда ровные, прочные отношения, не предполагавшие обязательных совместных ночевок, хотя дело шло к браку и непременно им увенчалось бы, и это был бы, наверное, не худший брак. И я даже сочинял что-то, и мне казалось очень уютным сочинять в общей тогдашней съемной квартире, и меня не смущало чужое присутствие, которого я теперь не мог и вообразить. Все немедленно стало чужим до такой степени, что меня передергивало от любых случайных прикосновений в метро. Это началось сразу после того, как я ее проводил на вокзал.
На вокзале еще было истерическое веселье – мы думали, что у нас полно времени: пошли в ресторан, заказывали что-то, всего этого не оказывалось, и при каждом новом обнаружившемся обломе мы принимались хохотать все громче и даже радовались, кажется, отсутствию всей этой пищи, потому что можно было вместо еды опять обниматься; она улеглась на безобразный плюшевый диван, положила голову мне на колени, принесли единственное имевшееся – напрашивается вымя, но это были пельмени. В меню было написано, что с XV века пельмени триумфально шествуют по Зауралью. Мы вообразили это триумфальное шествие, с флагами, хоругвями, боевыми криками, – тут я посмотрел на часы и ахнул: срочно заплатили за всю эту несъеденную еду и побежали. «А ты бы хотела опоздать?» – «Знаешь… скорее… бессознательно», – выговорила она на бегу (она не умела и не любила бегать и в этом тоже признавалась очень легко; при всей легкости и худобе ненавидела всякий спорт). Я впихнул ее в вагон, она выскочила обратно, несмотря на крик проводницы, – поцеловаться, и снова я почувствовал этот ни на что не похожий вкус. Вообще, никогда не понимал, когда читал или слышал о вкусе чужих губ. Они бывают гладкими или шершавыми, сухими или пухлыми, но здесь у них был ни на что не похожий вкус – солоновато-сладкий, и я ей успел сказать, что не было в моей жизни ничего вкусней, чем она. «Самое вкусное, чем меня кормили». Проводница взревела совсем уж сиреной, и мне пришлось отскочить от вагона. Тут и поезд тронулся, и поначалу я чувствовал себя легко и уверенно, и на перроне мне все улыбались – такая аура счастья меня окружала; но дальше, уже в метро, начались проблемы.