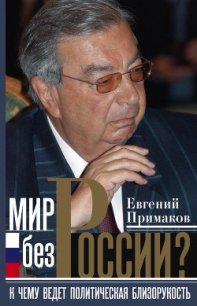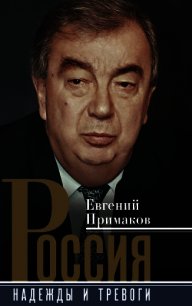Встречи на перекрестках - Примаков Евгений Максимович (чтение книг .txt) 📗
– Не пойдет.
– Почему? – спросил я. – Ведь это проходной вариант, причем все республики согласны с тем, что при подписании экономического договора они возьмут на себя определенные обязательства, без которых не сможет функционировать единое экономическое пространство.
– Если мы подпишем экономический договор, – ответил Горбачев, – то многие остановятся на нем и не захотят подписать союзный, который уже готов, и все заявили о своем согласии присоединиться к нему.
– Да, но ведь и экономический договор подразумевает создание наднациональных структур. Нужно начать с экономики, а затем наращивать политические структуры Союза.
М.С. Горбачев отверг эту идею. Думаю, что ему «помогли» оказаться в плену представлений о реальности союзного договора и он искренне верил в возможность его подписания. Так или иначе, но развести по времени экономический договор, приемлемый для всех, от политического не удалось.
Стало еще сложнее оттого, что вместо создания общесоюзной рыночной инфраструктуры ставку сделали на так называемый «региональный хозрасчет». В республики передавалась государственная собственность. В некоторых из них решалось, отчислять ли средства в союзный бюджет. Провозглашался приоритет республиканских законов над союзными.
Республики, в том числе РСФСР, приступили к подписанию «горизонтальных» соглашений друг с другом. Сама по себе такая практика, очевидно, была полезной. Но в то же время в соглашениях фиксировались взаимные поставки. Это подводило к мысли, что через такие соглашения будут осуществляться хозяйственные связи между предприятиями, расположенными на территории той или иной республики. Совершенно ясно, что такой порядок являлся антиподом рынку. Другое дело, если бы в таких соглашениях были дополнительно зафиксированы договорные обязательства предприятий, но, к сожалению, не на этом делался акцент.
В общем, дело шло к распаду не только Союза, но и единого экономического пространства.
Иногда можно было услышать: «Давайте действовать как в Западной Европе, где самостоятельные государства с самостоятельными экономиками вошли в единый интеграционный поток». Такое сопоставление было абсолютно несостоятельным. Советский Союз представлял собой единое государство (я здесь не говорю о недостатках, а констатирую то, что государство было единым со всеми вытекающими из этого последствиями). Следовательно, лозунг «Сначала размежевание, а потом интеграция» означал разрыв тысяч устоявшихся производственных связей. Нож размежевания не мог не резать по живому – так и получилось.
Преобразования в тупике
На XXVIII съезде партии, как уже писал выше, я отказался баллотироваться в ЦК, так же как и некоторые другие члены политбюро. Для меня такое решение диктовалось вполне определенной позицией – в своем выступлении на съезде я, в частности, заявил: «Я считаю твердо, что члены Президентского совета, например, не должны входить в политбюро, и буду действовать на основе этого убеждения». В этом же выступлении, касаясь роли партии, подчеркнул, что одной из главных причин осложнения обстановки в стране был тот факт, что мы не действовали «опережающими темпами» в области обновления партии, которая после отказа от конституционно гарантированной ведущей роли в обществе должна встать на путь завоевания места ведущей силы.
Партия, по сути, на этот путь не встала. Оказалась не готовой действовать в тот момент демократическим путем, согласиться с существованием в ней «разномыслящих, но равно ответственных за перестройку сил», политическим плюрализмом в стране. Негативно сказалось и отсутствие новой идеологической основы деятельности. Ее не могли заменить сентенции типа «социализма с демократическим лицом». Необходим был крутой идеологический перелом, заключающийся не просто в отказе от несостоявшихся догм, но, да простит меня читатель за «навязчивую идею», в признании взаимовлияния социализма и капитализма, конвергенции как столбовой дороги развития всего человечества.
После XXVIII съезда я всецело сделал упор на работе в Президентском совете. Занимался не только внешнеэкономической деятельностью, но и вопросами, выходящими за ее рамки. Отношения с Михаилом Сергеевичем были хорошими, и я мог ставить перед ним проблемы довольно острые, решение которых, на мой взгляд, было необходимо. Но постановка этих вопросов вызывала определенную напряженность. Сознаюсь, главное, что меня волновало, даже возмущало, – это недостаточная решительность в укреплении власти Закона. Нельзя было не слышать, как на волне широкого недовольства бездействием государственных органов, падением порядка и дисциплины все громче звучали голоса, призывающие положить конец «демократическим играм» и вернуться к «жесткой руке». Опасность многократно усугублялась тем, что эти голоса были порождены не только ностальгией консервативных сил по прошлому. Они исходили и от тех, кто разочаровывался в способности властных структур в новых условиях перехода к демократии организовать дело и добиться результатов.
Горбачев, могу смело сказать, понимал такую опасность, но действовал крайне нерешительно. Когда 15 января 1991 года я ему сказал об этом, он мне ответил, что хочет избежать в тяжелые времена перехода к другому обществу гражданских столкновений – их могли бы спровоцировать решительные меры по наведению порядка в стране в целом. Но, как мне представляется, в словах Горбачева была только частичная справедливость. Скорее даже справедливость намерений, а не возможных результатов отказа от такой активности, что в конце концов подтвердилось путчем, организованным ГКЧП.
Телефонный разговор проходил далеко не гладко и закончился фразой МС: «Я чувствую, что ты не вписываешься в механизм». На следующий день я передал Горбачеву личное письмо, в котором говорилось: «После вчерашнего разговора я твердо решил уйти в отставку. Это – не сиюминутная реакция и, уж во всяком случае, не поступок, вызванный капризностью или слабонервностью. Ни тем ни другим – думаю, Вы не сомневаетесь в этом, – никогда не отличался. Но в последние месяц-полтора явно почувствовал, что либо Вы ко мне стали относиться иначе, либо я теперь объективно меньше нужен делу. И то и другое несовместимо даже с мыслью о продолжении прежней работы». К письму было приложено формальное заявление с просьбой разрешить мой переход в Академию наук СССР.
Не спорю, мое решение подать в отставку подтолкнуло и то, что я связал первый раз проявившуюся в мой адрес раздраженность и неприязнь с упразднением Президентского совета. В этом, пожалуй, я был не прав. Горбачев решительно отказал мне в отставке, сказав, чтобы я даже не думал об этом. Его желание оставить меня в «активной команде» подтвердилось в начале марта во время выборов членов Совета безопасности. Не знаю точно, кто работал в Верховном Совете против меня, но работа велась, и результат голосования был крайне неожиданным и обескураживающим – из всего списка не прошли я и В.И. Болдин. Думаю, что это было неожиданным и для многих других. Взволнованно, искренне, горячо выступил Горбачев, подчеркнувший, что мое членство в Совете безопасности будет служить делу и он ставит вопрос о переголосовании. Я подошел к микрофону и сказал, что прошу не переголосовывать. Затем начались выступления. В такую минуту особую благодарность испытал к тем, кто поднялся в защиту, – все депутаты, попросившие слова по итогам голосования, вне зависимости от своей политической ориентации выступили в мою поддержку. Председательствующий Лукьянов обратился ко мне с вопросом, не изменил ли я свою точку зрения. «Не изменил», – ответил я.
Этот ответ был вознагражден хотя бы тем, что во время объявленного тут же перерыва ко мне подошла депутат Сажи Умалатова и назвала меня «настоящим мужчиной, каких мало в Верховном Совете». Все-таки состоялось переголосование, и на этот раз я был избран.
Совет безопасности был в ту пору конституционным органом, и это предполагало его большое значение в государстве. Многие считали, что, по существу, он берет на себя функции политбюро, которое продолжало существовать, но уже строилось совсем по другому принципу – наряду с несколькими «освобожденными» членами в него вошли по должности все первые секретари ЦК союзных республик. Создание Совета безопасности означало смещение от оси федеральной власти в сторону государственных структур. Вместе с тем он так и не стал, за редким исключением, коллегиальным органом для откровенного обмена мнениями и конкретных рекомендаций по многим животрепещущим вопросам. Больше действовали по линии контактов отдельного члена СБ, отвечающего за ту или иную сферу, с Горбачевым или с другим членом Совета безопасности.