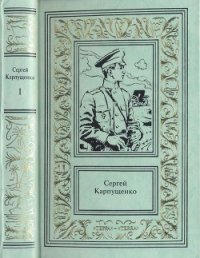Когда крепости не сдаются - Голубов Сергей Николаевич (серии книг читать бесплатно TXT) 📗
Ночь бросила на крыши прозрачное кружево снега. Земля была пегая — белый чехол на черной исподине. Небо то сжимало в синий кулак, то длинными бурыми пальцами топырило лохматые тучи. Лютке думал. Лопаты, ломы, топоры и пилы… Проволока электризована, но есть монтеры… Летите прочь, мокрые галки! Буря качает деревья, и деревья кажутся страшными. Прочь спасенья! Жизнь здесь так сурова, что человек может жить только всем своим существом, — жить целиком. Но такая жизнь не противостоит смерти: здесь жизнь и смерть — рядом. Поэтому никто не боится смерти, и никто не цепляется за жизнь. Эрнст Лютке писал на клочке бумаги грязью — сажа, разведенная в воде: «Называться коммунистом нетрудно до тех пор, пока не придет время отдать за это свою кровь. Был ли ты настоящим коммунистом, станет известно лишь тогда, когда пробьет для тебя час испытания. Я — коммунист! Знай, дорогой: я — настоящий коммунист. Я тысячу раз предпочитаю умереть за Советский Союз, чем жить для фашизма. Слушай: лучше топор палача, чем позорная жизнь для…» Лютке писал сыну. Через несколько дней этому письму предстояло вырваться из лагеря вместе с одним из конвойных солдат, предназначенных к отправке на восточный фронт. Солдат проведет час или два в Берлине. Фрау Доктор действовала. «Лучше топор палача, чем позорная жизнь для…»
Рука, тяжелая, как кирпич, упала на худое плечо Лютке. Его белые волосы всплеснулись, точно дым под ветром, острый локоть судорожно уперся в письмо, и глаза сверкнули огнем отчаяния и гнева. Он смотрел назад, на того, кто стоял за ним и держал его за воротник куртки. Мундир светлосерого сукна, черные нашивки — и лицо нюхающего зверя, — готово!
— Ты арестован, — сказал раппортфюрер [137], — попался, негодяй!
И выдернул письмо из-под локтя…
Гитлеровцы открыли наступление в Арденнах и прорвали фронт союзников. Для довершения катастрофы они хотели ударить по Льежу и, разгромив здесь американцев, выйти к Антверпену; отрезав девятую американскую, вторую британскую, первую канадскую армии и устроив таким образом союзникам новый Дюнкерк, они собирались вывести Англию из войны. Тогда Черчилль попросил у Сталина помощи…
Советские войска стояли на Висле, посреди красивых глубоких долин, где над крышами домиков, разбросанных по лесам, поднимались дрожащие струйки голубоватого дыма. Дороги в этих местах так занесло снегом, что они совсем сравнялись с полями, и только ряды ветел обозначали их направление. Отсюда, с приваршавских и принаревских, что к северу, плацдармов двинулись вперед советские войска. Это было частью могучего наступления от Балтики до Карпат, на фронте в тысячу двести километров. Наступление должно было изломать фашистскую оборону и спасти союзников. И оно, действительно, спасло их…
Хотя после ареста Лютке бригада электротехников и перестала существовать, но Заксенгаузенский лагерь не остался без дополнений к газетным известиям. Уборщики из пленных, рискуя головой, слушали по вечерам в служебных помещениях последние радиопередачи. «Германское верховное командование… Бои на Висле… Разведывательные отряды… Танненберг, Фридланд, Познань…» Гитлеровцы отбивались пехотой и танками. Однако советские войска неудержимо катились на запад от Вислы. Все чаще мелькало: Танненберг, Фридланд, Познань. Советские войска шли к Берлину…
…С конвойными солдатами надо было здороваться, за пять шагов снимая шапку и обнажая каторжную дорожку на темени. Опоздал — в зубы, а то и похуже. Только Шмидт не следил за поклонами пленных. Ему, простому деревенскому парню из Мекленбурга, трижды покалеченному под Можайском, Оршей, Седлецом и теперь ожидавшему новой отправки на фронт, с «Восточной» медалью на рабочей куртке за пролитую кровь, свою и чужую, в рваных солдатских штанах, с брюхом, раздутым от сырого картофельного хлеба, — словом, такому парню, как Иоганнес Шмидт, поклоны пленных были совершенно ни к чему. Он часто вспоминал свои фронтовые страхи не столько перед честным русским огнем, сколько перед подлыми голубыми петлицами тайной полевой полиции и буквами GFP на ее погонах. И воспоминания эти были так живы и отвратительны, что внушать людям такое же скверное чувство к себе, какое сам он раньше испытывал по отношению к полицейским на фронте, Шмидт ни за что не хотел. Но он шел и дальше. Со многими пленными у него были вполне дружественные, прямо-таки товарищеские отношения. И когда Геббельс для утешения германского народа опубликовал в «Райхе» статью о каком-то новом гитлеровском оружии, «при виде которого сердце останавливается в груди», именно он, Иоганнес Шмидт, растягивая гласные на восточно-немецкий манер и подмигивая полуслепым правым глазом, говорил своим приятелям из пленных:
— Donnerwetter Parapluie! Ooch'ne schene Gegend! [138]
Советские армии еще стояли на Висле, когда восточные концентрационные лагери стали сниматься с насиженных мест, грузиться в темные скотские вагоны и улепетывать за Одер. Эвакуирован был также и Ауствиц [139]. В Заксенгаузен привезли из Ауствица три тысячи заключенных: венгров, евреев, румын и поляков. Их разместили в пустых цехах разбомбленного автозавода Хейнкель. И развалины завода превратились в филиал большого Заксенгаузенского лагеря. В этой партии был Карбышев.
Между Флоссенбургской Schureisserei и бараком, в котором очутился теперь Карбышев, — рядом с бомбоубежищем, — лежали два ада. Один — в Майданеке; другой — в Освенциме. Оба ада имели наружный вид приятных польских городков, с каштанами на улицах, с тополями, прямыми, как свечи, с садами у домов и на площадях, с гранитными тротуарами. Но Карбышев не видел городков — ни Майданека, ни Ауствица, — так как безвыходно пребывал в аду. С вечера до утра — бритье, перекличка, нашивка номеров. В одиннадцать — суп из кормовой брюквы, по литру на человека. Уже в Ауствице Карбышев был так изнурен голодом и истерзан болезнями, что почти не мог двигаться. Таким же привезли его и в Заксенгаузен. Маленькая, ссохшаяся, жалко сжатая в плечах и от этого похожая на складной перочинный ножик фигурка Дмитрия Михайловича терялась, пропадала в толпе его барачных товарищей. Иногда это бывало спасительно. Но не всегда. Только Мюнхгаузен умел остаться сухим во время дождя, ловко пробираясь между его струями и каплями. Карбышев не умел. В четыре с половиной утра прибывших из Ауствица подняли с коек и перед отправкой на Аппельплац погнали в умывальню. Окна в умывальне были открыты. Седые туманы предрассветного двадцатиградусного мороза тяжко ворочались и а дворе. Blockalteste заорал:
— Shnell!
Заключенные спешили, но не так, как бы хотелось старосте. Кроме того, ему казалось, что они умываются с недостаточным усердием. Он схватил рубчатый шланг, змеившийся от стены к стене по асфальтовому полу, и, быстро нацелив его медное дуло на «лентяев», повернул ключ. Пронзительный вопль, дружно вырвавшийся из десятка человеческих глоток, прорезал мерзлую тишину раннего утра. Полуголые люди заметались. Но куда бы их ни швырнуло, они везде оставались под ударами ледяной струи. Карбышев не кричал и не метался. Почувствовав, что задыхается, он прислонился к стене…
…Канцелярские работники из пленных не любили секретничать, — наоборот. И к обеду весь филиал лагеря на заводе Хейнкель знал, что в Заксенгаузене — Карбышев. Изумленный шепот разбежался по баракам:
— Генерал Карбышев — каторжник. Здорово!
Но это казалось необычайным и поразительным лишь в самом начале, а поразмыслив, вовсе не трудно было понять, что каторга в фашистской Германии именно для таких, как Карбышев, по преимуществу и существует. Эта простая мысль внушала многим каторжникам прекрасное чувство уважения и к товарищам и к самим себе. Из унижения рождалась гордость, разгибала спины согбенных и заставляла искриться потухшие глаза. Появление в Заксенгаузене седого, желтого, как восковая свечка, заморенного, еле двигающегося старичка многим пленным в лагере очень помогло: одних приподняло, других поставило на ноги, — всех почти подбодрило и оживило.
137
Офицер СС по внутреннему наблюдению за лагерем.
138
Черт возьми дождевой зонтик! Тоже приятная перспектива! (нем.).
139
Освенцим.