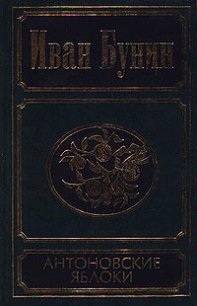Манифесты русского идеализма - Аскольдов Сергей Алексеевич (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Специфическим грехом эмпирического тела Церкви — ее государственной организации — было то, что своеобразный религиозный талант православия и его своеобразный подвиг был слишком извращен и обращен на пользу злого начала. Тот талант, о котором мы говорим, состоял в преобладании религиозного чувства над религиозной волей, в особой интимности и непосредственности чувствования Христа. Именно специфический способ взаимодействия с Христом через чувство, а не через волю, как это более характерно для западного религиозного сознания, давал православию большую внутреннюю свободу. Жертвы воли восполнялись в православном сознании пламенем веры и религиозным терпением, сораспятием Христу в своих страданиях. Это таинство заместительной силы одной религиозной стихии в сфере другой было особым благодатным даром русского народа. Этим даром и оправдывалось некоторое пренебрежение к моральному закону, объяснялась возможность быть «полнотою мерзости» и в то же время всегда проясняться религиозным светом. Это замещение и восполнение недостатков в одном достоинствами в другом происходило не только в индивидуальных сознаниях, но и в соборной целостности русской души. В России всегда осуществлялся подвиг братского замещения греха одних смирением, терпением других. Возможность такого заместительного подвига подтверждена в святоотеческой литературе следующими замечательными по своему времени словами подвижника эпохи иконоборчества св. Феодора Студита: «каждый свое дарование имеет, как написано: один такое, другой другое. Но вы, братия, союзом любви связанные, в силу сей любви, взаимно собственными делаете труды и добродетели друг друга. Ты, например, благодушно переносишь бесчестие; другой отличается трудолюбием, иной избыточествует молчанием, а иной благопокорностью, и по общению каждый из вас, кроме своего, имеет и то, что есть у других: добро ваше переходит взаимно от одного на всех и обратно» («Добротолюбие», т. IV, стр. 232). Именно в силу этого дара русская государственность, никогда не бывшая выражением каких-либо совершенных форм общественной жизни, могла быть в то же время телом жившего в ней высшего начала «Святой Руси». Русь была до отмены крепостного права, а отчасти и после него страной рабов и рабовладельцев, и это не мешало ей быть «Святой Русью», поскольку крест, несомый одними, был носим со светлой душой и в общем и целом с прощением тех, от кого он зависел, поскольку и те и другие с верою подходили к одной я той же Святой Чаше. Так праведность десятков миллионов очищала и просветляла в единстве народного сознания грех немногих тысяч поработителей, к тому же грех, часто ясно не сознаваемый в качестве такового ни той, ни другой стороной. Это именно был тот религиозный подвиг народной души, который дал право Тютчеву обратиться к России со словами: «край родной долготерпенья» {14}. И этот же поэт понял, что это долготерпение было не простое усилие воли, доступное и насквозь гуманистическому сознанию, но именно крест, носимый во имя Христа и мистически сливающийся с Его крестной ношей, ибо только в таком понимании становятся ясными слова поэта:
Да, слово «рабская» не было позорной кличкой для России былых времен, поскольку это рабство как-то отождествлялось с «рабским видом» Христа. И эту тайну слияния если не понимало, то несомненно чувствовало народное сознание. И тогда не было места в России гуманистическому сомнению, нравственно ли это, допустимо ли это. Но стоило гуманистическому сознанию заявить свои права и по-своему разъяснить это несомненно ненормальное, но все же религиозно оправданное и столь характерное для свято-звериного состава русской души положение вещей, как тот же самый факт получал также и иное религиозное значение. И прощаемое для времен наивной нетронутости русской души стало уже непрощаемым грехом. И подвиг долготерпения стал приобретать дурной смысл «нарушения элементарных человеческих и гражданских прав». И глубоко правильно и религиозно мудро поступил Александр II, сняв соблазн для той и другой стороны. Но не так мудро было наследовавшее ему правительство старой России. Оно не сознавало, что многое оправдывается незнанием и непониманием, что лишь в качестве святозверя Россия могла «праведно» грешить и болеть общественными недугами, но что эти самые грехи возросшему сознанию и совести русского народа уже вменялись в преступление. И к пониманию этого были уже достаточные данные и в русской богословской литературе.
Россия уже в конце прошлого столетия имела среди верных сынов православной Церкви человека, обладавшего и прозорливостью пророка, и великим даром литературного слова, и многими другими, слишком выдающимися талантами и духовными доблестями, чтобы не доставить обладателю их одно из первых мест в духовном руководительстве общественного сознания. Таким человеком был Владимир Соловьев, основной темой которого и было именно выяснение богочеловечности религиозного процесса. Соловьев был именно человеком, более всякого другого умевшим указать и разъяснить тот средний путь, по которому должна была бы пойти русская религиозная общественность. И, однако, все влиятельные общественные группы в России, в том числе и русское правительство и русская православная Церковь, прошли мимо этого великого сына своей родины, удостоив лишь отметить его как талантливого литератора и философа. Человек, рожденный быть духовным вождем своего народа, привлекал внимание немногих лишь в качестве остроумного собеседника, интересного журнального публициста и несколько таинственного чудака. И вот, не приняв истинного пророка, Церковь, в силу роковой связи совершаемых ошибок, приняла вместо него ложного, Гр. Распутина. Личность Распутина глубоко символична как выражение извращения того специального религиозного таланта русской души, о котором мы только что говорили, — извращения, в котором наиболее повинны именно носители религиозного сознания. Распутин был несомненно религиозный человек, несомненно понявший специфический талант русского религиозного сознания — жить внутренне праведно в оболочке греха. Но он не понял, что талант этот сохраняется лишь в непрестанном подвиге страдания, терпения и сознания своей греховности. Вина этого человека перед Россией заключалась, конечно, не в его личных грехах, сущности и тяжести которых мы не знаем, а в том, что его циническое перешагивание через пределы религиозно, морально и общественно дозволенного получило общегосударственное и общецерковное значение и стало фокусом всей внутренней политики. После обличения этой политики извне и изнутри для нее уже прошли времена и сроки религиозной терпимости. И русская революция свершилась, как нежданный Божий суд над ней. Мы твердо убеждены, что русская революция не есть дело рук человеческих, хотя подготовлялась она и человеческими усилиями. Ее неожиданность и случайность совершенно подобны неожиданности и случайности великой европейской войны, возникшей от удачного выстрела сербского террориста {15}. И напрасно политики говорят о неизбежности того, что на самом деле является лишь подготовленным. И война и русская революция несомненно были подготовлены всею совокупностью предшествующих условий. И, однако, все и могло бы ограничиться этой подготовленностью. Горючий материал может быть подготовлен и, так сказать, соблазнительно лежать, готовый загореться от первой искры, случайно заброшенной. Однако именно случайности-то и не подлежат расчетам и не всегда создаются человеческой рукой, особенно когда нужна как бы организованная совокупность этих случайностей, что именно и имело место при возникновении русской революции.