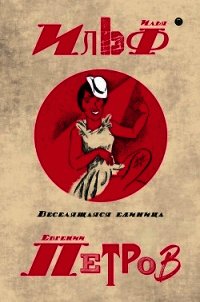Фельетоны, статьи, речи - Ильф Илья Арнольдович (книга жизни .TXT) 📗
Художник. Я не понимаю. Почему?
Редактор. (застенчиво). Велика. Я бы даже сказал — громадна, товарищ, громадна.
Художник. Совсем не громадная. Маленькая, классическая грудь. Афродита Анадиомена. Вот и у Кановы «Отдыхающая Венера»… Потом возьмите, наконец, известный немецкий труд профессора Андерфакта «Брусте унд бюсте», где с цифрами в руках доказано, что грудь женщины нашего времени значительно больше античной… А я сделал античную.
Редактор. Ну и что из того, что больше? Нельзя отдаваться во власть подобного самотека. Грудь надо организовать. Не забывайте, что плакат будут смотреть женщины и дети. Даже взрослые мужчины.
Художник. Как-то вы смешно говорите. Ведь моя официантка одета. И потом, грудь все-таки маленькая. Если перевести на размер ног, то выйдет никак не больше, чем тридцать третий номер.
Редактор. Значит, нужен мальчиковый размер, номер двадцать восемь. В общем, бросим дискуссию. Все ясно. Грудь — это неприлично.
Художник. (утомленно). Какой же величины, по-вашему, должна быть грудь официантки?
Редактор. Как можно меньше.
Художник. Однако я бы уж хотел знать точно.
Редактор. (мечтательно). Хорошо, если бы совсем не было.
Художник. Тогда, может быть, нарисовать мужчину?
Редактор. Нет, чистого, стопроцентного мужчину не стоит. Мы все-таки должны агитировать за вовлечение женщин на производство.
Художник. (радостно). Старуху!
Редактор. Все же хотелось бы молоденькую. Но без этих… признаков. Ведь это, как-никак, согласитесь сами, двусмысленно.
Художник. А бедра? Бедра можно?
Редактор. Что вы, Константин Павлович! Никоим образом — бедра! Вы бы еще погоны пририсовали. Лампасы! Итак, заметано?
Художник. (уходя). Да, как видно, заметано. Если нельзя иначе. До свиданья.
Редактор. До свиданья, дружочек. Одну секунду. Простите, вы женаты?
Художник. Да.
Редактор. Нехорошо. Стыдно. Ну ладно, до свиданья…
И побрел художник домой замазывать классическую грудь непроницаемой гуашью.
И замазал.
Добродетель (ханжество плюс чопорность из штата Массачузетс, плюс кроличья паника) восторжествовала.
Красивых девушек перестали брать на работу в кинематографию. Режиссер мыкался перед актрисой, не решался, мекал:
— Дарование у вас, конечно, есть… Даже талант. Но какая-то вы такая… с физическими изъянами. Стройная, как киевский тополь. Какая-то вы, извините меня, красавица. Ах, черт! «Она была бы в музыке каприччио, в скульптуре статуэтка ренессанс». Одним словом, в таком виде никак нельзя. Что скажет общественность, если увидит на экране подобное?
— Вы несправедливы, Люцифер Маркович, — говорила актриса, — за последний год (вы ведь знаете, меня никуда не берут) я значительно лучше выгляжу. Смотрите, какие морщинки на лбу. Даже седые волосы появились.
— Ну что — морщинки! — досадовал режиссер. — Вот если бы у вас были мешки под глазами! Или глубоко запавший рот. Это другое дело. А у вас рот какой? Вишневый сад. Какое-то «мы увидим небо в алмазах». Улыбнитесь. Ну, так и есть! Все тридцать два зуба! Жемчуга! Торгсин! Нет, никак не могу взять вас. И походка у вас черт знает какая. Грациозная. Дуновение весны! Смотреть противно!
Актриса заплакала.
— Отчего я такая несчастная? Талантливая — и не кривобокая?
— В семье не без урода, — сухо заметил режиссер. — Что ж мне с вами делать? А ну, попробуйте-ка сгорбиться. Больше, гораздо больше. Еще. Не можете? Где ассистент? Товарищ Сатанинский, навесьте ей на шею две-три подковы. Нет, не из картины «Шурупчики граненые», а настоящие, железные. Ну как, милуша, вам уже удобнее ходить? Вот и хорошо. Один глаз надо будет завязать черной тряпочкой. Чересчур они у вас симметрично расположены. В таком виде, пожалуй, дам вам эпизод. Почему же вы плачете? Фу, кто его поймет, женское сердце!
Мюзик-холл был взят ханжами в конном строю одним лихим налетом, который, несомненно, войдет в мировую историю кавалерийского дела.
В захваченном здании была произведена рубка лозы. Балету из тридцати девушек выдали:
30 пар чаплинских чоботов
30 штук мужских усов
30 старьевщицких котелков
30 пасторских сюртуков
30 пар брюк
Штаны были выданы нарочно широчайшие, чтоб никаким образом не обрисовалась бы вдруг волшебная линия ноги.
Организованные зрители очень удивлялись. В программе обещали тридцать герлс, а показали тридцать замордованных существ неизвестного пола и возраста.
Во время танцев со сцены слышались подавленные рыданья фигуранток. Но зрители думали, что это штуки Касьяна Голейзовского — искания, нюансы, взлеты.
Но это были штуки вовсе не Голейзовского.
Это делали и делают маленькие кустарные Савонаролы. Они корректируют великого мастера Мопассана, они выбрасывают оттуда художественные подробности, которые им кажутся безнравственными, они ужасаются, когда герой романа женится. Поцелуйный звук для них страшнее разрыва снаряда.
Ах, как они боятся, как им тяжело и страшно жить на свете!
Савонарола? Или хотя бы Саванарыло?
Нет! Просто старая глупая гувернантка, та самая, которая никогда не выходила на улицу, потому что там можно встретить мужчин. А мужчины — это неприлично.
— Что ж тут неприличного? — говорили ей. — Ведь они ходят одетые.
— А под одеждой они все-таки голые! — отвечала гувернантка. — Нет, вы меня не собьете!
1932
Как создавался Робинзон
В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя.
Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя, не приковывали. А редактору хотелось именно приковать.
В конце концов решили заказать роман с продолжением.
Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Молдаванцеву, и уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора.
— Вы понимаете, — втолковывал редактор, — это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо. Так, чтобы читатель не мог оторваться.
— Робинзон — это можно, — кратко сказал писатель.
— Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.
— Какой же еще! Не румынский!
Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела.
И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не слишком отклонился от великого подлинника. Робинзон так Робинзон.
Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности: звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через три года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: «Внимание! Сбросьте одеяло, сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!»
— Очень хорошо, — сказал редактор, — а про кроликов просто великолепно. Вполне своевременно. Но, вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения.
— Борьба человека с природой, — с обычной краткостью сообщил Молдаванцев.
— Да, но нет ничего советского.
— А попугай? Ведь он у меня заменяет радио. Опытный передатчик.
— Попугай — это хорошо. И кольцо огородов хорошо. Но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?
Молдаванцев вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла. Он стал красноречив.