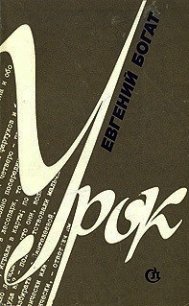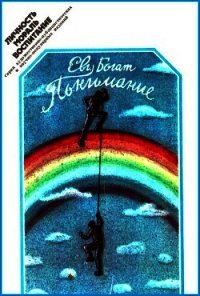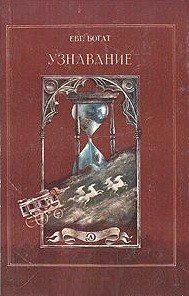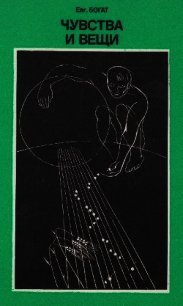Избранное - Богат Евгений Михайлович (читать полностью бесплатно хорошие книги .TXT) 📗
В этом письме замечательно не только то, что он говорит с ней, будто она стоит рядом, самое изумительное, что она возвращает ему, тяжко страдающему астмой, дыхание. «Жуковский…» — задыхаясь пишет он, и дальше идет на легком юном дыхании рассказ о женском голосе, поющем Баха.
Последнее письмо в жизни (А. М. и Е. А. Жемчужниковым [11]) он написал с ней в «четыре руки»: первую часть — она, вторую — он. Они написали его, как играют в четыре руки пьесу, которую иначе, двумя руками, сыграть нельзя.
Этой пьесой была их жизнь.
Они умерли? Я не рискну утверждать это.
В самом начале, в самом первом озарении любви — после того шумного бала, где он встретил ее «случайно, в тревогах мирской суеты», — он послал ей письмо-мечту:
…Видится деревня, слышится твой рояль и этот голос, от которого я сразу же встрепенулся… Это твое сердце поет от счастья, мое его слушает.
Письмо это напоминает одну из последних страниц романа Булгакова «Мастер и Маргарита», ту, где рассказывается о том, как он и она, соединенные навсегда и перенесенные чудом в ка-кую-то странную, сновиденческую местность, идут в блеске первых утренних лучей через каменистый, мшистый мостик.
«Слушай беззвучие, — говорила Маргарита Мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, — и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград…»
Те, кто живут в этом вечном доме, будут вечно одарять нас мудростью.
Время воскрешать
Я хотел, чтобы рядом с вечно живыми голосами, никогда не умолкавшими для нас, зазвучали полузабытые и безвестные совсем. И вот настала минута услышать совершенно забытый голос человека, которому я обязан замыслом этой работы, — голос Анастасии Николаевны Сологуб-Чеботаревской (1876–1921).
В русских журналах начала века можно найти ее статьи по искусству — о Родене, художниках Монмартра, Нестерове, Врубеле, Сомове… Она переводила Стендаля, Мопассана, Ромена Роллана, Метерлинка… И она составила несколько оригинальных по замыслу книг. Одна из них, ставшая ныне большой библиографической редкостью, — «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII–XIX веков». В книге этой автор — она скромно именует себя: «составитель» — как бы отсутствует вовсе: в ней — письма, только письма, одни лишь письма… Читая их, ощущаешь все отчетливей, все резче любовное письмо как весомейший исторический документ, отражающий в тончайших бесценных подробностях дух эпохи, ее нравы.
Анастасия Николаевна Сологуб-Чеботаревская умелым талантливым отбором раскрыла философскую суть и эмоциональную мощь любовного письма, его непреходящую ценность, когда в нем запечатлена живая, ищущая истины душа. В отборе этом живет и она сама — автор-составитель, собственная душа ее. В собранном ею томе большое, пожалуй, даже господствующее место занимают письма поэтов, особенно поэтов-романтиков, и письма женщин. Отдельные строки могут сегодня рассмешить чересчур рассудительного читателя, показаться инфантильными или банальными, удивить сентиментальностью. Удивляет даже сама техника обмена письмами. Поэт начала XIX века Иустин Кернер и его возлюбленная Рикеле не пересылали их по почте, а оставляли под камнем в старой, заброшенной капелле. Но то странное, возвышенно-невнятное, о чем он ей писал, пожалуй, и нельзя было передавать иначе: «…юноша относится к деве как звезда к цветку; неустанно плывет по небу звезда, сквозь облака и бури… Цветок тихо благоухает на родной почве…» Это бормотание сердца и надо было, наверное, укрыть под камнем, как укрывает под ним бормотание первый весенний ручей.
Можно улыбнуться сегодня, читая строки из писем поэта-романтика Ленау: «В прекрасных глазах, подобных твоим, как в пророческом иероглифе, является нам материя, из которой когда-нибудь будет создано наше вечное тело. Когда я умру, то уйду из этой жизни богатым, так как видел прекраснейшее… Слова, сказанные тобой сегодня вечером, как бальзам, пролились в мое сердце… Такие минуты наполняют сердце бурным избытком и счастья, и страдания, и оно, смущенное, не знает, исходить ли ему кровью или смеяться…» Можно, повторяю, улыбнуться, можно… Но тот, кто ощутит в ворохе слов этих, похожих на ворох старой, старой листвы, живое подлинное страдание — страдание, от которого даже умирают (что и доказал собственной судьбой поэт), устыдится желания улыбнуться. Увядает стиль, но не умирает боль.
В книге А. Н. Сологуб-Чеботаревской особенно много писем женщин, в отличие от моей, куда более «мужской». (И это естественно: писатель склонен рассказывать о том, в чем он разбирается. То, что написано о загадке женской души, отнюдь не романтический вымысел, потому что написано это мужчинами, а мы ее действительно не понимаем.)
Странное дело — ни одно из этих женских писем не вызвало иронии и у самых несентиментальных, даже антиромантически настроенных людей, которым я давал читать их. Они не казались ни банальными, ни инфантильными, ни даже наивными, хотя написаны были в то же самое время и порой в духе тех же умонастроений, что и мужские «смешные». Почему? Самое легкое, не раздумывая, отнести это к «загадке женской души». Но, объявляя загадочное загадкой, мы не делаем его ни более понятным, ни более волнующим.
В письмах женщин, которые любили, есть та возвышенная трезвость, земная нежность и земное милосердие, то радостное переживание живого мира, которое делает их неувядаемо естественными, именно естественными, как естествен лес или дождь. Эти «несмешные», несмотря на всю «старомодность» чувств, женские письма делают более понятными и «смешные» мужские, ибо раскрывают в женщине то, от чего можно, как некогда говорили, потерять голову и сердце. (Хотя как раз те, кому они писались, не теряли часто ни сердца, ни головы.)
Я вернулась сегодня вечером в Эрбле, думая о вас, — писала в 1841 году забытая ныне французская писательница Гортензия Алларт де-Меритенс известному писателю и критику Сен-Беву. — Если бы вы знали, какое очарование быть одной в природе среди зимы, вдали от шума городов и суеты страстей. Я не поспела на дилижанс в Эрбле, и мне пришлось ехать в карете, отправляющейся в Понтуаз, которая довезла меня до того места, где мы с вами обедали; оттуда я пошла пешком при свете луны в легком тумане. Я была так счастлива, воздух и тишина давали мне такую радость, что я готова была броситься на колени в грязь и благодарить бога; бегущие облака проносились над рождающейся луной, вечерний холод был пропитан туманом и населен видениями. Все было спокойно, все с негой призывало к домашнему очагу. И, сидя здесь, у моего одинокого очага, я чувствую радость, передать которую я вам не сумею. Я слышу только дыхание моего уснувшего ребенка; все в деревне спит, кроме меня, пишущей вам. Мне кажется, что я с радостью разделила бы с вами эту тишину уединения полей. Мы бы вместе наслаждались общением с наукой и одиночеством; тут около меня все эти мудрецы, мои истинные возлюбленные. Какую радость дает наука! Как приятно быть одной с книгами! Но хорошо было бы также читать их с кем-нибудь, — по очереди; как вы говорите в ваших стихах.
Меня очень смутило то письмецо, которое вы мне написали, — вы, который бежит от любви, как сражающийся Парфянин. Любили мы друг друга? Нет, так не любят. Я знаю, что значит любить. Теперь, может быть, мы могли бы начать. Любовь — это что-то святое, томительное, то грустное, то радостное. Никто бы не внес в любовь к вам такой нежности, такой свободы, как я. У нас был бы один общий культ, культ великих писателей на земле и богов на небе. Подарите мне хоть на мгновение тень сожаления об этом, а потом сейчас же раскайтесь по обыкновению. Вы всегда очаровывали меня…
В вас есть какая-то сдержанность, скрытая сила, скромность и величие, полное такой неги и красоты, что мысль всегда обращается к богу. Я бы сумела понять вас и нашла бы радость в том, чтобы жить для вас.
Я прочла сегодня вечером у Бэкона: «Всякая наука и всякое преклонение перед ней приятны сами по себе». И еще: «Науки вызывают в душе постоянное волнение. Бедность — удел добродетели и т. д.».