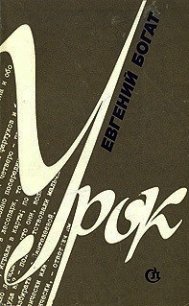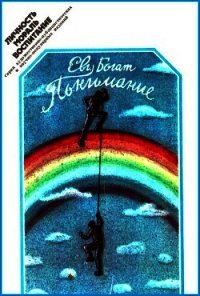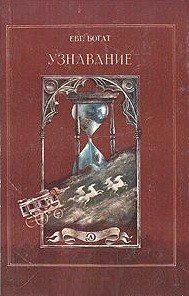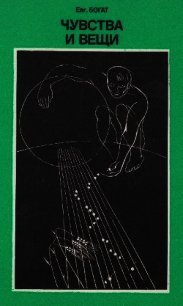Избранное - Богат Евгений Михайлович (читать полностью бесплатно хорошие книги .TXT) 📗
А через два дня:
Я люблю вас с искреннейшей и сильнейшей страстью. Хотел бы полюбить еще более, но это невозможно.
Но оказалось, что он ошибается; это возможно.
Еще немного, — писал он ей, — и буду с вами и принесу вам уста невинные, губы нетронутые, глаза, какие вот уже месяц ничего не видят. Как мы будем счастливы, когда мы вновь встретимся.
И в том же письме замечательные строчки, в которых соединились его ум и его сердце:
Я познал всю мудрость наций и решил, что она ничего не стоит в сравнении с той безумной нежностью, которую мне внушает моя подруга. Я услышал их величественные речи и подумал, что одно лишь слово из уст любимой вызывает в душе моей волнение, какое они не в силах дать мне. Они говорили мне о добродетели, и образы, какие они рисовали, возбуждали воображение мое; но я предпочел бы увидеть мою милую, молча смотреть на нее и уронить слезу, которую вытерла бы она своей рукой или осушила своими губами.
Но отвлечемся на минуту от писем ради старого Парижа, жизнь которого, как я уже говорил, неотрывна от этой любви.
Когда я шел ночью по улице Старых Августинцев, а час ночной выбрал я потому, что хотелось мне тишины и безлюдия, я думал опять и опять о том, что любовь их неотрывна от старого Парижа, от его немощеных улиц, карет, рынков, мастерских ремесленников, «философских» чердаков, от самого воздуха столицы Франции XVIII века.
Чтобы понять их отношения, которые и «лепились» XVIII столетием, и были вызовом ему, надо войти, углубиться в старый Париж, в старый век…
Парижане любили не только веселые развлечения, но и серьезную музыку; они ходили в церковь, чтобы наслаждаться органом, вызывая тем самым досаду у высоких духовных особ, полагавших, что орган должен поднимать благочестие, а не мирскую радость.
Особенной любовью парижан пользовался органист Дакен [9], игравший в церкви Сен-Поль. И вот однажды трубы и педали этого органа были унесены для ремонта, осталась одна клавиатура. Большой орган был совершенно пуст. Тем не менее, когда в воскресенье церковь была полна поклонниками Дакена, он начал играть, и никто не заметил, что в органе недостает основных частей. Все голоса, казалось, были налицо, даже нежнейший голос флейты.
В церкви находились в тот день и инструментальные мастера, которым было известно, что орган пуст. «Не может этого быть, — говорили они между собой, — по-видимому, оставили в нем что-то». Когда Дакен кончил играть, они поднялись на хоры, осмотрели, даже обыскали орган и не нашли ничего… кроме маленького немолодого человека, который играл с непонятным, загадочным мастерством, вводя в обман даже инструментальных мастеров!
Этой истории нет в письмах Дидро к Софи Волан, хотя он любил ей сообщать все городские анекдоты., (О сердечных чувствах, писал он однажды, буду говорить тогда, когда не хватит «городских анекдотов».) Этой истории, повторяю, в его письмах нет. Они сами по себе эта история, потому что он, Дидро, в эпоху, когда в нравственном мире его века, казалось бы, отсутствовали столь необходимые «части», как естественность, доброта, постоянство чувств, размах страсти, не останавливающейся ни перед какими жертвами, когда игры в любовь было несравненно больше, чем самой любви, заставил «орган» играть на все голоса, поражая его полнозвучным богатством.
Рассказав ей все городские анекдоты, он добавляет:
Вы заслуживаете, чтобы я запечатал письмо, не повторивши вам, что люблю вас, но не могу сердиться и не ради вас, а ради себя самого говорю, что люблю вас всей душой, беспрестанно думаю о вас.
Это тот нежнейший голос флейты, которого не должно было быть в пустом органе, по мнению инструментальных мастеров…
Письма Дидро к Волан напоминают орган и тем, что самое личное, интимное соединяется в них с общечеловеческим, мировым.
Он резко расширил интимный мир личности, заложив в нем основы тех зависимостей и соотношений, которые сегодня, когда любой из нас не отрывает интимное от социального, кажутся чем-то естественным, но тогда обладали большой новизной.
Конечно, не случайно изменения эти в мире личности были совершены в XVIII столетии: ведь именно в нем — философствующем, любвеобильном и героическом в последнее десятилетие века — началась та великая метаморфоза (ряд колоссальных социально-экономических потрясений), которая и создала небывалый мир, окружающий нас сегодня…
Порой кажется, что люди XVIII века испытывали особое беспокойство, беспокойство перед отплытием. Они без конца писали и говорили, как без конца говорят люди в последние часы перед большим расставанием. Европа расставалась со старым миром.
И можно подумать, что лишь один человек не испытывал беспокойства — Дидро. Он испытывал особое беспокойство — беспокойство любви, потому что, как все любящие, порой сомневался в сердце и верности любимой, но он был абсолютно уверен в великом будущем человечества.
Он верил в человечность. В одном из писем к Софи Волан он рассказывает о разговоре между собой и Гольбахом, тоже философом-вольнодумцем, энциклопедистом, но настроенным более пессимистически, чем жизнелюбивый, обожающий человека Дидро. Они говорили о жестокости и человечности. Они волновались, ссорились. Гольбах отыскивал в минувших веках дикие казни, горы отрубленных голов, массы растерзанных человеческих тел и с иронической улыбкой потчевал рассказами об этом чувствительного Дидро: полюбуйтесь, что за милое создание человек!
Дидро же говорил ему о героизме, о великодушии, о милосердии, о том, что открывалось ему в истории и современности. Он не игнорировал жестокие рассказы Гольбаха — сердце его наполнялось яростью к деспотизму, а «рука тянулась к кинжалу», но он был убежден, что истина о человеке полнее. Подобно большинству думающих людей века, он верил, что человек зол не от рождения, а от дурного воспитания и дурного законодательства.
Человек от рождения добр.
Пусть ошибаюсь, — писал Дидро Софи Волан, — я радуюсь, что подобная ошибка могла родиться в глубине моего сердца.
Он беспредельно любил человека.
Все, что натура человека заключает в себе правдивого, великого, мужественного, честного, трогает меня и наполняет мою душу волнением.
И в том же письме:
Нежный друг мой. Я люблю вас всем сердцем, это чувство не в силах ослабить ничто, напротив, мне кажется, что оно способно еще возрасти.
Мне хочется сейчас снова на миг вернуться к великому органисту Дакену. Однажды во время службы, в рождественский сочельник, он так изумительно воспроизвел на органе пение соловья, что после окончания игры церковные служители послали сторожей на поиски птицы, которая, как думали, залетела под церковный купол.
О мой друг, — писал Дидро Софи, — когда Дафнис увидел свою Хлою после долгой жестокой зимы, разлучившей их, взор его помутился, ноги подкосились, он зашатался… В иные минуты мне кажется, если бы вы, друг мой, по какому-нибудь волшебству вдруг оказались возле меня: умер бы от счастья.
Это поет соловей Дакена, тот соловей, которого так и не нашли под куполом церкви.
Они часто расставались надолго, и в то же время они не расставались никогда. Он безумно по ней тосковал, но не было и минуты, чтобы он не ощущал ее рядом. Он рассказывал ей в письмах обо всем в мире. И, в сущности, рассказывал об одном — о любви к ней. Он пишет о дожде, о философских беседах, о бесчисленных мелочах… Он передает ей содержание всех разговоров, которые показались ему почему бы то ни было важными. И — удивительное свойство любви! — самые далекие от их отношений разговоры оказываются для него существенными именно потому, что имеют ощутимое им непосредственное касательство к его сердцу, наполненному страстью и нежностью.