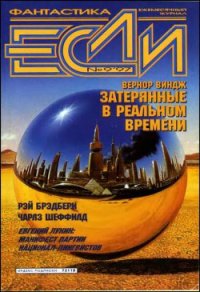Чехов; Посещение Бога - Киреев Руслан (читать хорошую книгу .txt) 📗
Кто-то сердобольно выкрикнул из зала, чтобы он сел, но сесть было не на что, да и Чехов, воплощение деликатности, никогда б не согласился на это. Лишь горбился да покашливал, "мертвенно бледный и худой", как напишет после Станиславский, признавший, что "юбилей вышел торжественным, но... оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами".
А еще он признал, что спектакль получился средненьким. Но ведь чествовали не спектакль, не режиссера и не актеров -- чествовали Чехова: когда он вышел на сцену после третьего действия, весь зал встал, как один человек.
Не чествовали -- прощались... Тот же Станиславский скажет, что у него "было тоскливо на душе", но это у него, это у других участников спектакля, это у безмолвно, почти траурно притихшего зала, а у того, с кем прощались? Что было на душе у того, кто, еще живой, присутствовал на собственных похоронах?
Без малого десять лет назад, весной 1894 года, у него было подобное состояние -- Чехов описал его в одном из писем. "...На днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю: хожу с соседом-князем по аллее, разговариваю -- вдруг в груди что-то обрывается, чувство теплоты и тесноты, в ушах шум, я вспоминаю, что у меня подолгу бывают перебои сердца -- значит, недаром, думаю; быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих".
Неловко умирать при чужих... Неловко падать и умирать при чужих... Не умер. Не упал. Дождался-таки, стоя на подгибающихся ногах, когда занавес наконец опустился, и тут его с одной стороны подхватил Горький, с другой Миролюбов, отвели в уборную Качалова, хотели уложить на диван, но Чехов упорствовал и, лишь когда остались вдвоем с Качаловым, произнес: "А я в самом деле прилягу с вашего разрешения". Однако, когда начался четвертый акт, поднялся. "Пойдем посмотрим, как "мои" будут расставаться с "Вишневым садом", послушаем, как начнут рубить деревья". Те самые звуки, которые раздаются, когда заколачивают крышку гроба... А чем еще могло венчаться это действо!
Вообще звуки не сцене не только слова, а обыкновенные, сугубо вспомогательные, казалось бы, звуки: звон колокола, какой-нибудь скрип --были для Чехова чрезвычайно важны, об этом в своих мемуарах пишет Станиславский. Это важное свидетельство. Важное в том плане, что, как утверждают врачи, звуки -- это последнее, что воспринимает умирающий. А он таковым, по сути дела, уже был.
"Знал ли он размеры и значение своей болезни? -- спрашивает Куприн, не раз встречавшийся с ним тогда. -- Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигающейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывающие на это".
Но и без "мелких обстоятельств", по одному внешнему виду, можно было понять, в каком он состоянии. Борис Зайцев вспоминал много лет спустя о своей встрече с Чеховым в ту как раз зиму, на одной из знаменитых "сред" Телешова: "Чехов был неузнаваем. В огромную столовую Николая Дмитриевича на Чистых прудах ввела под руку к ужину Ольга Леонардовна поседевшего, худого человека с землистым лицом. Чехов был уже иконой. Вокруг него создавалось некое почтительное "мертвое пространство" -- впрочем, ему трудно было бы и заполнить его по своей слабости".
Премьера "Вишневого сада" -- это "мертвое пространство" увеличило еще больше. Не слишком чуткие люди пытались преодолеть его -- визитеры, бесконечные визитеры, которым Чехов в силу своей деликатности отказать не мог.
"Москва -- очень хороший город, -- пишет он через два дня после триумфа в Художественном театре ялтинскому врачу Средину. -- Но здесь страшная толкотня, ни одной свободной минуты, все время приходится встречать и провожать и подолгу говорить, так что в редкие свободные минуты я уже начинаю мечтать о своем возвращении к ялтинским пенатам, и мечтаю, надо сознаться, не без удовольствия".
Это -- удивительное признание. Но -- неполное. Что-то тут Чехов явно недоговаривает, такова уж его манера общения с людьми. Он и на репетициях своих пьес ограничивался, как правило, короткими, на первый взгляд ничего не значащими репликами, суть которых актеры и режиссеры постигали лишь впоследствии.
Но что же недоговорил он в письме к доктору Средину, когда обмолвился о возможном скором возвращении в Ялту, совсем недавно столь тяготящую его? Ответа на этот вопрос в письме нет, но он есть -- или, во всяком случае, его можно отыскать там -- в написанном в праздной курортной Ницце в 1897 году рассказе "Печенег". Герой его размышляет о том, что "хорошо бы, ввиду близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая незаметно и бесследно поглощает дни за днями".
Чехов прекращает. Меньше чем через месяц после премьеры "Вишневого сада", 15 февраля 1904 года, уезжает в Ялту, а за день до этого, 14 февраля, пишет Авиловой письмо, в котором, расставаясь с когда-то столь близкой ему женщиной (Бунин утверждает, что эта женщина была единственной, к кому Чехов испытал "большое чувство"), дает ей прощальный наказ: "Главное -- будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. -- А дальше следуют слова, которые адресуются уже не ей, не только ей или даже не столько ей, сколько самому себе: -- Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы, -- еще неизвестно".
Эта неизвестность сохранялась, по-видимому, до конца. Но это уже совсем недолго: жить ему оставалось четыре с половиной месяца...
Два с половиной из них он проведет в Ялте. Доктор Альтшуллер найдет, что он вернулся сюда "в значительно худшем состоянии", нежели уезжал, зато "полный московских впечатлений". В чем эти впечатления выражались? А в том, что "оживленно рассказывал про чествование, показывал поднесенные ему подарки и комически жаловался, что кто-то, должно быть, нарочно, чтобы ему досадить, распустил слух о том, что он любитель древностей, а он их терпеть не может".
Оживленно... Комически... И это лексика доктора, который наблюдает смертельно больного человека, доживающего свои последние недели. Да, но ведь и Чехов -- не будем забывать! -- был врачом и тоже наблюдал, пусть изнутри, но изнутри-то подчас даже виднее. Выходит, не думал о смерти? Не знал? Знал, не мог не знать, это знали и видели все, и он, разумеется, исключением не был. Или думал, но очень мало, самую чуточку. Совсем по Спинозе, написавшем в "Этике", что "человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти". А он был человеком свободным. Самым, может быть, свободным человеком во всей русской литературе, включая Пушкина.
Но, возможно, дело тут не только в свободе, феноменальной внутренней свободе человека, до капли выдавившего из себя раба, но и в своего рода привычке. Еще давно, тридцати лет от роду, он признался в одном из писем, что ему многих пришлось похоронить и он стал "даже как-то равнодушен к чужой смерти". А к своей? И к своей, по-видимому, тоже, во всяком случае --теперь. Если говорит или пишет о ней, что бывает крайне редко, то лишь в шутливом тоне, как, впрочем, и о болезнях своих. Или это вообще свойство русского человека? Русского мужика... В повести "Мужики" так и написано: "Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом".
Относительно смерти -- все так, но вот страха, тем более преувеличенного страха, никто в нем не замечал. Письма его полны не то что оптимизма, но, во всяком случае, планов на будущее. Активно обсуждается план покупки подмосковной дачи, не оставляются даже мечты о ребенке ("...теперь бы за ребеночка я десять тысяч рублей дал"), но это еще что! На войну ведь собирался, русско-японскую, которая как раз разворачивалась тогда, и не в качестве литератора, "не корреспондентом, а врачом", потому что "врач увидит больше, чем корреспондент".
Собирался и писать. Гарин-Михайловский, посетивший его весной в Ялте, вспоминает, как Чехов показал ему записную книжку, куда в течение нескольких лет заносил карандашом заметки для будущих произведений. Но карандаш стал стираться, и невостребованные записи он обвел чернилами. "Листов на пятьсот еще неиспользованного материала. Лет на пять работы".