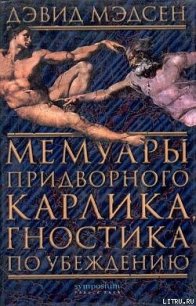Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А - Федотов Лев Федорович (читать книги полные .txt) 📗
…Я теперь жалею, что не записал их пребывание в Москве! Тогда мне казалось, что эти записи у меня будут лишние и скучные, а между тем это было все очень интересным, и я это сейчас-то уже понимаю. Но ничего, впредь я буду умней!
Итак, с ноября 1939 г. метод ведения дневника изменился, что наводит на мысль и о пересмотре его назначения. Темп повествования резко замедлился. Так, теперь отображение всего трех недель – с 17 ноября по 8 декабря – потребовало целой тетради, а неполный год – с 9 декабря 1939 г. до 23 августа 1940 г. – занял 7 тетрадей, которые, увы, не дошли до нас. Как это следует из авторских пояснений, материал стал иначе фильтроваться и подаваться. Именно к этому обновленному стилю относятся и некоторые безусловные парадоксы дневника. Первый из них: отсутствие сведений об источниках информации, которые питали естественнонаучные интересы автора. Как человек знания, нацеленный на научную работу в будущем, Лева, по свидетельству друзей, много читал. По их же воспоминаниям, он часто и подолгу проводил время в Зоологическом музее на Моховой, а также скрупулезно изучал анатомию человека и даже втягивал некоторых соучеников в изучение анатомического атласа. Однако тщетно было бы искать следы этих занятий в дневниковых текстах. Единственное упоминание книги, из которой он регулярно черпал полезную информацию, – «История земли» – относится к эпизоду отправки толстого письма родственникам в Ленинград: чтобы распухший конверт втиснулся в прорезь почтового ящика, его пришлось подложить под пресс из этого самого фолианта. Приведенное наблюдение наталкивает на единственно возможный вывод: получение знаний, иными словами, поглощение результатов чужого труда, не задействовавшее креативного потенциала самого автора, сознательно исключалось из дневниковых записей.
Описание повседневной жизни также выдержано в строгом соответствии с принципом: если предмет создавал повод для эмоционального, интеллектуального или даже физического напряжения, то он подлежал запечатлению на бумаге. На этом основании из рассказов-отчетов о школьной жизни выпадает будничная рутина, а фиксируются особые случаи, когда привычный распорядок ломается. Например, конфликт с учителем литературы Я. Д. Райхиным, вызванный отказом Левы участвовать в чтении по ролям драмы Островского «Гроза» по причине мучительной зажатости перед любым публичным выступлением. Или – проявления особого педагогического мастерства, например, учителем физики В. Т. Усачевым, которому удавалось без обычных учительских санкций усмирить разбуянившихся подростков и одновременно доступно и остроумно объяснить трудные понятия по своей дисциплине. Или сдача экзаменов после 9-го класса и последующая «расправа», которую он учинил над символами школьного рабства – дневником и тетрадями. В крайнем случае – это те отдельные работы, которые требовали творческих усилий и выполнялись им не только по необходимости, но и с осознаваемой пользой для развития своих наклонностей, как, например, подготовка экономико-географической карты Великобритании, рисунки к географическим альбомам, посвященным Италии и Украине.
Быт представлен короткими сообщениями о частых приездах иногородних родственников, создававших тесноту в их маленькой квартирке, о походах в гости и приемах гостей. Или же – о спорах с матерью, теткой по разным поводам.
События «большого мира» в дневнике отражены также в небольшом объеме и избирательно. Его приковывает тема советско-финской войны 1939–1940 гг., но в известной мере интерес к ней обусловлен запланированной на зимние каникулы 1940 г. и сорванной, в конечном итоге, поездкой в Ленинград. При этом восприятие военной кампании целиком и полностью определяется освещением советской печати и пропаганды и не выдает стремления автора более или менее самостоятельно осмыслить ее уроки. Далее вопросы международной политики почти исчезают из записей примерно годичной продолжительности (с августа 1940 г. по июнь 1941 г.). И вот парадокс номер два: в самом конце XIV тетради, под датой 5 июня, без видимой связи с предыдущим содержанием помещен глубокий аналитический разбор будущей схватки СССР с гитлеровской Германией. Именно эта вставная новелла, которая принесла известность дневнику и его автору, в наибольшей степени озадачивает неявными мотивами и обстоятельствами своего появления.
Помимо того, через весь текст проходят сквозные темы, которые его особенно занимали. Это – впечатления о музыкальных произведениях, в особенности о произведениях Дж. Верди и в первую очередь об опере «Аида». Это – художественно-изобразительные работы, в том числе зарисовки с натуры некоторых видов московского городского ландшафта, ленинградских памятников архитектуры и особенно Исаакиевского собора, который он считал таким же шедевром в зодчестве, как «Аиду» в музыке. Это – поездка в Ленинград и долгая подготовка к ней; наблюдения за природой в городе и спуск в подземелье; школьные дела, освещаемые преимущественно как неизбывная помеха любимым внешкольным занятиям. Наконец, это общение с родственниками, знакомыми семьи, друзьями, любимыми учителями, а также игры и разговоры с маленькими детьми.
Львиная доля материала подается через призму диалогов, в которых автор педантично фиксировал не только разговорную нить, но даже междометия и, насколько позволяет письменная передача, интонации говорящих. Скрупулезное и точное воспроизведение всей беседы требовало от него больших усилий. И здесь всплывает третий парадокс: подросток, дороживший каждой свободной минутой и жертвовавший ради внешкольных увлечений прогулками, а часто и приемами пищи, расточительно тратил свое время на запись мелких деталей разговора, будь то с другом, родственником, учителем или даже с едва знакомым ребенком. Эта своего рода мания «воспроизведения» вызывала тем большее недоумение у окружающих, что никакого мало-мальски исторического значения с общепринятой точки зрения записываемые разговоры не имели. Иными словами, овчинка не стоила выделки. Такое ощущение, например, у Юрия Трифонова оставила их последняя «проходная» встреча в булочной на Полянке, в конце которой Лева пообещал: «Я и эту встречу в булочной запишу. И весь наш разговор. Потому что все важно для истории» [13]. Иногда приверженность этому правилу вызывала насмешки. А иногда ставила его в неловкое положение: некоторых собеседников Левы, например, учителя музыки Модеста Николаевича Робера и его жену Марию Ивановну, похоже, не всегда радовала перспектива быть запечатленными в каждой своей реплике на страницах дневника. Тень их неудовольствия проскальзывала в разговоре о выборе жизненного пути и смысле будущей деятельности Левы.
– Я уверен, что ты не пропадешь! – сказал М. Н. – Раз у тебя столько склонностей, то из тебя выйдет весьма полезный человек.
Я молчал.
– …который должен получить орден, – добавила М. И.
– Ну, орден – это другое совсем дело, – возразил М. Н.
– Нет. Нет! Без ордена я не признаю.
– Главное, чтобы принести пользу стране, – сказал я, – а орден или похвала – это дело десятое. Если ты человек образованный, грамотный, ученый, умеющий приносить обществу пользу, то этого уже достаточно. Ты и без ордена будешь таким же. Орден только подтверждает пользу человека, а ценят человека – за его знания и способности.
– Это правильно, – согласился М. Н. – Скромность прежде всего.
– Боже! – проговорился я. – Как я только все это запишу в дневник? Ведь я забуду все эти разговоры! Уж лучше я сразу ушел бы домой после занятий!
– Вот он зачем тут сидит!!! – вскричал М. Н.
Как бы то ни было, Лева продолжал свою работу в прежнем ключе.
На первый взгляд в подобном способе ведения дневника усматривается подспудное стремление компенсировать дефицит доверительного общения в реальной жизни, что в целом характерно для замкнутых подростков. Подобное допущение было бы правомерно, например, в отношении сверстника Левы, сына М. Цветаевой – Георгия Эфрона, которому личный дневник тех же лет частично восполнял отсутствие товарищеской среды. Однако эта схема не подходит для Левы. При всей своей неформатной интеллектуально-психологической организации он совершенно не был отщепенцем. У него были близкие друзья (Миша Коршунов, Женя Гуров, Олег Сальковский, Дима Сенкевич, Юра Трифонов), теплые и открытые отношения связывали его с учителем музыки Модестом Николаевичем и его женой Марией Ивановной, интеллигентной родней из Ленинграда – виолончелистом Фишманом Эммануилом Григорьевичем и его женой – художницей Раисой Самойловной.
13
Цит. по: Коршунов М. П., Терехова В. Р. Указ. соч. С. 188.