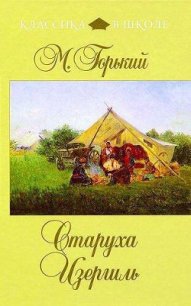Горький: страсти по Максиму - Басинский Павел (читать книги полностью .TXT) 📗
Медсестра решила иначе.
Улыбался ли он при этом и бодро шутил, как утверждает Липа, или говорил загробным голосом воскрешенного Елиазара, как вспоминает Екатерина Пешкова, но факт остается фактом. Горький… ожил.
Его вернули с того света. Ему подарили еще девять дней бытия.
Потом Екатерина Пешкова назовет это “чудом возврата к жизни”.
Трагический кордебалет
После первого укола Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на это согласился.
Пешкова: “Когда Липа об этом сказала, А.М. отрицательно покачал головой и произнес очень твердо: «Не надо, надо кончать»”.
Крючков вспоминал, что “впрыскивания были болезненны” и хотя Горький “не жаловался”, но иногда просил его “отпустить”, “показывал на потолок и двери, как бы желая вырваться из комнаты”.
Будберг: “Он колебался, затем сказал: «Вот здесь нас четверо умных, – поправился, – неглупых людей (М.И., Липа, Левин, Крючков). Давайте проголосуем: надо или не надо?»”
Крючков и Пешкова тоже вспоминают об этом странном голосовании.
Конечно, все голосуют за!
И вдруг мизансцена меняется… Появляются новые лица. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Членам Политбюро уже сообщили, что Горький умирает. Они приехали и спешат проститься.
Будберг: “Члены Политбюро, которым сообщили, что Г. умирает, войдя в комнату и ожидая найти умирающего, были удивлены его бодрым видом”.
Где-то за сценой – Генрих Ягода. Он прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось.
Черткова: “В столовой Сталин увидел Генриха. «А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было. Ты мне за все отвечаешь головой», – сказал он Крючкову. Генриха он не любил”.
Ягода почти свой в доме писателя. Недаром Липа всесильного руководителя карательных органов называет просто: Генрих. Но при Сталине Генрих тушуется. Сталин же ведет себя в доме по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Пе-пе-крю. “Сталин удивился, что много народу: «Кто за это отвечает?» – «Я отвечаю», – сказал П.П. «Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» – «Знаю». – «Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть!»”
Ну, а сколько было народу? Если не брать в расчет врачей и прислугу, возле Горького – только его семья. Плохая или хорошая, но это – его семья. Сталин членом этой семьи не был.
Пешкова: “Через некоторое время (после первого впрыскивания камфары. – П.Б.) Ал. М. поднял голову, снова открыл глаза, причем выражение лица его необычайно изменилось. Оно просветлело, стало таким, как бывало в лучшие минуты его жизни. Он опять подолгу посмотрел на каждого и сказал: «Как хорошо, что всё свои, всё свои люди…»”
Так бы вот и умереть… Да, может, он, как и Егор Булычов, “не на своей улице жил”. Но любил-то он многих… И его любили… Да, путаная была жизнь! С постоянными переездами. Со всей семьей, с врачами. Из Сорренто – в Москву. Из Москвы – в Сорренто. Потом Сталин запер в СССР. “В Крыму климат не хуже”. И Сорренто, чудесный городок на берегу Неаполитанского залива, где море “смеется” под солнцем, остался вдали.
Вспоминает писатель Илья Шкапа:
“– Окружили… обложили… ни взад, ни вперед! Непривычно сие!”
Это сказал Горький осенью 1935 года в кабинете дома на Малой Никитской, готовясь к отъезду в Крым.
Но вот он, последний час… Все-таки свои вокруг.
Пешкова, мать двух его детей. Правда, обоих уже нет. Младшая, Катя, умерла в младенчестве. Максим умер два года назад при очень загадочных обстоятельствах. Будберг. Он любил ее страстно, ревниво. Особенно когда она не жила в его доме постоянно, как в Петрограде, в квартире на Кронверкском проспекте, а бывала наездами. Крючков. В последнее время он прятал от него письма и разную “лишнюю” информацию. То есть был как раз одним из тех, кто его “окружил и обложил”. И все равно – свой, еще с петроградских времен. Липа. Тимоша. Соловей-Ракицкий. Так бы и умереть…
Зачем ему делали второй укол камфары?
“Хозяин” едет! И свои становятся только кордебалетом.
Будберг: “В это время вошел, выходивший перед тем, П. П. Крючков и сказал: «Только что звонили по телефону – Сталин справляется, можно ли ему и Молотову к вам приехать?» Улыбка промелькнула на лице А.М., он ответил: «Пусть едут, если еще успеют»”.
Будберг: “Потом вошел А. Д. Сперанский со словами: «Ну вот, А.М., Сталин и Молотов уже выехали, а кажется, и Ворошилов с ними. Теперь уже я настаиваю на уколе камфары, так как без этого у вас не хватит сил для разговора с ними»”.
Позвольте! Ведь только что врачи сказали жене, что “дальнейшее вмешательство бесполезно”. Только что, посовещавшись – и Сперанский не мог оставаться в стороне, – они согласились “не мучить больного понапрасну”.
“Уже я настаиваю”!
После этого голосование, которое предложил Горький, выглядит по-другому. Не разыгрывал ли Старик трагикомедию? Не пародировал ли таким образом тайные заседания ЦК с коллективными голосованиями? Не издевался ли Горький таким образом над апофеозом казенщины, в которую хотели превратить его смерть?
Старик – прозвище Горького среди молодых писателей. В семье его называли ласково-насмешливо: Дука. “Старик” – одна из лучших пьес Горького. В ней хитрый и коварный старец, похожий на персонажа повести Достоевского “Село Степанчиково и его обитатели” Фому Опискина, пытается обмануть обитателей имения. Есть образ старика и в одном из лучших рассказов Горького двадцатых годов – “Отшельник”, где герой проповедует всеобщую любовь и жалость к людям. Вообще, образ старика, то злого, то доброго, но неизменно знающего о людях нечто такое, чего они сами о себе не знают, начиная с Луки в пьесе “На дне”, сопутствовал Горькому всю жизнь.
Дело врачей
Крючков: “Если бы не лечили, а оставили в покое, может быть, и выздоровел бы”.
Значит, врачи виноваты?
Известно, что Сталин не любил врачей. Если Ленин не признавал врачей-большевиков, предпочитая швейцарских профессоров, то Сталин их не любил как факт. Bo-первых, он не доверял врачам, поскольку опасался быть залеченным до смерти. От простуды спасался народным средством: ложился под бурку и потел. Во-вторых, медики каждому человеку с возрастом сообщают все менее и менее утешительные вещи. И вот за это Сталин особенно их ненавидел.
Почему из докторов, которые лечили Горького перед смертью, пострадали только Л. Г. Левин, Д. Д. Плетнев, И. Н. Казаков и А. И. Виноградов, умерший в тюрьме еще до суда (не путать с В. Н. Виноградовым, который в 1938 году входил в состав экспертной комиссии, помогавшей расправе с его коллегами, а затем стал личным врачом Сталина)? Почему не осудили видного терапевта, заслуженного деятеля науки, профессора Георгия Федоровича Ланга, “под непрерывным и тщательным врачебным наблюдением” которого пребывал якобы умерщвленный докторами писатель? Имя Г. Ф. Ланга, как и затем расстрелянного Л. Г. Левина, стоит в газете “Правда” от 6 июня 1936 года под первым сообщением о болезни Горького. Но если профессор Ланг “непрерывно и тщательно”, как утверждает газета “Правда”, наблюдал за состоянием Горького, то фактически он наблюдал за тем, как его коллега Л. Г. Левин убивал писателя “неправильным лечением”, в чем Левин признался на суде.
Профессор Ланг дожил до 1948 года, основал свою научную школу, в 1945 году стал академиком, написал несколько трудов по кардиологии и гематологии и в 1951 году посмертно удостоен Государственной премии.
Почему не арестовали А. Д. Сперанского, ученого-патофизиолога из Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ)? Ведь ему Горький особенно доверял, он обладал среди врачей, лечивших писателя, некоторым приоритетом. Однажды, как вспоминает П. П. Крючков, вспыльчивый Сперанский чуть не избил Левина за то, что тот сообщил Крючкову о новокаиновой блокаде (входивший тогда в моду метод лечения воспалительных процессов), которую Сперанский тайно собирался сделать Горькому и выписал для этого специальные шприцы.