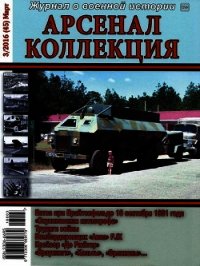Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
Внешне: я живу не «за границей», а на поселении, сама готовлю, качаю воду, стираю, нянчу Георгия, занимаюсь с Алей по-французски (вспомни К.И.Мармеладову – это я). Я неистово озлоблена, и меня не любят, восхищаются, боятся. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени думать, думает перо. Утром 5 минут (время присесть), среди дня 10, вечером – вся ночь, но ночью не могу, другая я оживаю (слушающая, а некого, даже шумов садика – ибо хозяева запирают выходную дверь с 8 часов вечера, а у меня нет ключа). Борис, я живу фактически взаперти. У тебя хоть между редакцией и редакцией, редакцией и домом, есть куски, отрывки тротуара, пространства, я живу в котловине, задушенная холмами: крыша, холм, на холме – лежа – туча: туша. Друзей у меня нет, – здесь не любят стихов, не нужны, а вне – не стихов, а того, что? их создает <вариант: из чего они> – что я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях. Да еще с мужской иронией!
Где я живу – деревня, с гусями, с водокачками. В Праге бываю раз в месяц, за иждивением, и вся <вариант: только и> радость – что не опоздала на поезд (роковое созвучие! <вариант: предначертанность созвучия>). Если бы восстановить мой день, шаг за шагом, жест за жестом – а попытаюсь! – получилось бы – что белка в колесе и что рабочий у станка (и спасает равномерность! <вариант: однообразно порядок муки, пытки), не белка и не рабочий – просто кельнерша в <оборвано>
Не 8-часовой, а 24-часовой рабочий день.
Ты не думай: деревня: идиллия. Деревня: свои две руки и ни секунды своего времени. Деревьев не вижу, дерево ждет любви (внимания), а дождь мне важен поскольку просохло или не просохло белье.
Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А тогда что? С моста в Москву-реку? Да, милый друг, со стихами как с любовью: она тебя бросает, а не ты ее <вариант: важно, чтобы она тебя бросила, не ты ее>. Ты же у лиры – крепостной.
Две комнаты – крохотные, исчерченные трубами, железная печка, как в России. Все вещи наруже, не ходишь – спотыкаешься, не двигаешься – ударяешься. Посуда, табуретки, тазы, ящики, сплошные острия и углы, вся нечисть быта, яростная. Тетрадям одним нет места. На том же столе едят и пишут (муж – докторскую работу «Иконография Рождества», Аля – французские переводы, я – налетом – Крысолова).
Не писала Вам домой – инстинкт. Оказия – в никуда («во сне всё возможно» <вариант: почти что на тот свет>), адрес – обязывает. В Вашем пожелании я вижу призыв к порядку. Подчиняюсь.
Письмо 31б
Вшеноры, близь Праги, 14 июля 1925 г.
Цветаева – Пастернаку
Борис,
Первое человеческое письмо от тебя (остальные Geisterbriefe), и я польщена, одарена, возвеличена. Ты просто удостоил меня своего черновика.
А вот мой черновик – вкратце: 8 лет (1917 г. – 1925 г.) киплю в быту, я тот козел, которого непрестанно заре- и недоре-зывают, я сама то варево, к<отор>ое непрестанно (8 л<ет>) кипит у меня на примусе. Моя жизнь – черновик, перед которым – посмотрел бы! – мои <подчеркнуто трижды> черновики – белейшая скатерть. Презираю себя за то, что по первому зову (1001 в день!) быта (NB! быт – твоя задолженность другим) – срываюсь с тетрадки, и НИКОГДА – обратно. Во мне протестантский долг, перед которым моя католическая – нет! моя хлыстовская любовь (к тебе) – пустяк.
Ты не думай, что я живу «за границей», я живу в деревне, с гусями, с водокачками. И не думай: деревня: идиллия. Деревня: свои две руки и ни одного своего жеста. Деревьев не вижу, дерево ждет любви (внимания), а дождь мне важен поскольку просохло или не просохло белье. День: готовлю, стираю, таскаю воду, нянчу Георгия (5 ? мес<яцев>, ЧУДЕСЕН), занимаюсь с Алей по-франц<узски>, перечти Катерину Ивановну из «Преступления и наказания», это я. Я неистово озлоблена. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени подумать, думает перо. Утром 5 мин<ут> (время присесть), среди дня – 10 м<инут>, ночь моя, но ночью не могу, не умею, другое внимание, жизнь не в себя, а из себя, а слушать некого, даже шумов ночи, ибо хозяева запирают выходную дверь (ах, все мои двери входные, тоска по выходной – понимаешь?!) с 8 ч<асов> вечера, а у меня нет ключа. Борис, я вот уже ГОД живу фактически взаперти. У тебя хоть между домом и редакцией, редакцией и редакцией отрывки тротуара, простора, я живу в котловине, задушенная холмами: крыша, холм, на холме – туча: туша.
Друзей у меня нет, – здесь не любят стихов, а вне – не стихов, а того, из чего они – что? я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях.
Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А потом что? С моста в Москва?-реку? Да со стихами, милый друг, как с любовью: пока она тебя не бросит… Ты же у лиры – крепостной.
Сопоставление с Есениным, – смеюсь. Не верю в него, не болею им, всегда чувство: как легко быть Есениным! Я тебя ни с кем не сопоставляю. Ты никогда не будешь ПЕРВЫМ, ведь первый – великая тайна и великий шантаж, Борис! – только какая-то степень последнего, тот же «последний», только принаряженный, приукрашенный, обезвреженный. У первого есть второй [23]. Единственный не бывает первым (Анненский. Брюсов).
И Прозу и поэму получила. Название «Проза» настолько органично, а «Рассказы» настолько нарочито, что я ни разу, понимаешь, ни разу, с тех пор, как взяла книгу в руки, не говорила о ней иначе, как «Проза» Пастернака. Никогда – «Рассказы». Разве ты можешь писать рассказы? Смеюсь. Рассказы, это Зайцев пишет. Проза, это страна, в ней живут, или море – черпают ладонью, это ЦЕЛЬНОЕ. А рассказы – унизительная дребедень. Дурак издатель. Ах, Борис, сколько дураков и наглецов.
О Георгии узнал от Аси? Передай ей, что я ей писала бесчисленное число раз по самым фантастическим адресам, посылала книги, деньги и вещи. Передай ей, что я ее люблю и что я все та же. И что от нее за 3 ? года не получила ни строки, только раз – устную весть через какого-то чужого, с какой-то службы. И еще – давно – от Павлика.
<Конец первого листа письма. Остальная часть письма не сохранилась.>
<На полях:>
Адр<ес>: Чехо-Словакия, Vsenory, c. 23 (р.р. Dobrichovice) u Prahy.
Дошел ли «Мо?лодец»? Послан с оказией.
Письмо 32
16 августа 1925 г.
Пастернак – Цветаевой
Я во многом перед Вами виноват. И запоздалость ответов против других грехов еще вина последняя. Но как-то странно, как раз в тех случаях, когда ответ на многое в Ваших письмах вырывается за их чтеньем безотчетно, восклицаньями, – ответные письма залеживаются или не удаются.
Невольно вскрикнул я над двумя местами. Над известием о кончине Рильке и над предложеньем помощи.
Начну с последнего. Было последним свинством посвящать и Вас во всю эту грязь. Я называю это грязью потому, что это затрудненья никак не человека, а мытарства мещанские, до непозволительности мещанские, то есть до такой степени, что будь Вы тут, Вы и сами мне их так в глаза назвали. Коротко говоря, чтобы Вам все было ясно, это вот что. Это – часть отцовой квартиры, втрое по квадратуре площади превосходящая то, что нам троим нужно, по количеству же и устройству комнат и печей не поддающаяся сокращенью; это, затем, целый арсенал совершенно не нужной нам мебели и вещей из иной и уже давно чужой эры, двусмысленных и вредных на чужой взгляд и, как-никак, порабощающих нас хотя бы своим количеством. И наконец – это двойственная, всегда полуподавленная, наполовину же раздраженная психология самих обитателей, это мое сознанье, что большая часть моих усилий пропадает даром и что целость этой нелепости, переживающей обостренье за обостреньем, – лучший нравственный патент моего безволья, нерешимости и ненаходчивости. И вот, всему этому Вы хотите прийти на помощь! Как Марина, как большой и, значит, строгий и проницательный голос правды, как друг, как что хотите, Вы уже, конечно, угадали мой черновик, т. е. в той же мере и черновик жены, – потому что она резче и решительнее меня на все это смотрит. И значит прибавлять ничего не надо. Но если бы, не дай Бог, я не успел Вам этого сказать и Ваши намеренья остались жить, я бы одно их существованье переживал как громкую несообразность, как пощечину, данную себе на всю жизнь. Это дико. Вам в тысячу раз трудней, и трудность Вашей жизни слышна истории, она современна, стесненье, в котором Вы живете, делает честь всякому, кто к нему прикоснется. А мои матерьяльные неурядицы – архаизм, дичь, блажь, мыльные пузыри, практическое несовершеннолетье. И я так горячо все это расписываю не в отклоненье только предложенного: об этом и разговору быть не может, и это бы значило в открытое ломиться, это и Вы сами поняли, и жар моих представлений тут излишен. Но мне просто хочется, чтобы Вы это знали и не думали обо мне лучше, чем я того заслуживаю, зрелище неблаговидное, говорю Вам. Также за намеренное, подтвержденное оскорбленье сочту я и присылку чешского гонорара за перевод прозы, если это гадательное предположенье осуществится (гадательным же оно кажется мне по неинтересности, т. е. ненужности, безжизненности этой прозы в наше время). Нет, ради Бога, Марина, пусть все будет по-прежнему, умоляю Вас, умоляю во имя пониманья дела, на которое я так всегда любовался. А по-прежнему это значит я Ваш должник, и моего долга ни обнять, ни простить, ни оплатить. Вот оно. Иное расположенье не отвечало бы жизни, т. е. было бы почему-либо фальшиво.
23
NB! Формула: «первый» это последняя ступень лестницы, первой ступенью которой является «последний». – Приписка М.И.Цветаевой.