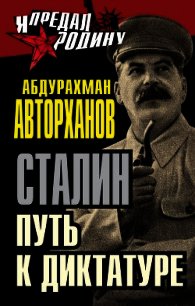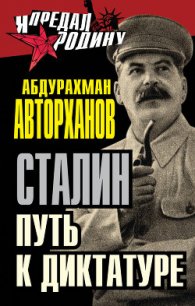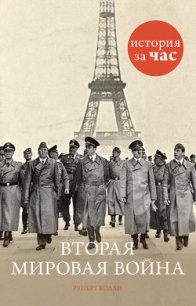Происхождение партократии - Авторханов Абдурахман (читать книги полностью .txt) 📗
«Я — председатель Совнаркома СССР (Совета министров СССР. — А. А.), член Политбюро, и если после моего заявления о том, что я за резолюции голосовал, в составлении некоторых из них участвовал, никаких новых резолюций ни я, ни кто другой не вносил, если после семи месяцев (с тех пор, как правые капитулировали. — А. А.) моей политической, хозяйственной и советской работы по осуществлению генеральной линии, после ликвидации разногласий, приходит человек и спрашивает меня — как относишься к генеральной линии? — то я в ответ могу сказать только одно: я решительно не понимаю, какие есть основания для такого рода вопросов» (там же, стр. 264).
Сталинский съезд разъяснил Рыкову его недоумение и сообщил ему, как надо было отвечать на этот вопрос. Рыков должен был заявить коротко и ясно: Мы, правые, хотели «гибели революции и победы капитализма».
Но вот теперь и Рыков, и Бухарин, и Томский поняли, чего от них требуют — они еще и еще раз во всеуслышание покаялись, разоружились, стали на колени перед Сталиным. Казалось, что трудно было найти человека на этом съезде, который бы сомневался в искренности капитуляции бухаринцев, который бы не прочувствовал всю трагику падения этих вчерашних вождей, который бы не простил им вчерашние ошибки за глубину сегодняшнего падения. Но это только казалось. Съезд не удовлетворился самобичеванием бухаринцев! Человека, который не бичует себя до смерти, нельзя считать искренним. Поведение бухаринцев на съезде посчитали спектаклем «самоубийства» для достижения определенных целей.
Вот почему один из оруженосцев Сталина — Микоян — прямо в директивном тоне предупреждает съезд: «Выслушав трех бывших лидеров правой оппозиции, съезд не может удовлетвориться их заявлением… Съезд имеет все основания не доверять этим товарищам»! («XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет», 1931, стр. 256).
Так и поступили. В конце 1930 года Рыкова сняли, и главой правительства стал Молотов.
Да, кажется, съезд требовал не спектакля, а подлинного, не только политического, но и физического самоубийства… Но вскоре выяснилось, что даже и такое самоубийство — в отчаянии от ложных обвинений — сталинцы не признают доказательством невиновности. Так, когда Томский, в ответ на ложные обвинения, действительно покончил жизнь самоубийством в августе 1936 г., Политбюро выпустило краткое коммюнике, в котором говорилось, что Томский покончил жизнь самоубийством, запутавшись в своих антипартийных связях!
Таким образом, к началу тридцатых годов Сталин покончил с самой популярной в народе, а потому самой опасной для него оппозицией — с «правой оппозицией». В длительной и нелегкой борьбе на путях к единовластию Сталину помогают не только его верные соратники (Молотов, Каганович, Ворошилов, Микоян), не только преданная ему «иерархия секретарей партии», не только его личные качества терпеливого комбинатора в тактике и хитрейшего мастера власти в стратегии, — но и абсолютная беспечность, незадачливость, наивность в политике его соперников. Могут возразить — как это так, разве таких опытных революционеров, как Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, можно считать незадачливыми, наивными политиками?
Если политика есть не только искусство возможного, но также и искусство должного по пути к власти, то величие или ничтожество политиков надо мерить лишь одним масштабом: насколько данный политик преуспел в борьбе за власть. Как оратор Октябрьской революции и организатор гражданской войны, Троцкий — деятель мирового масштаба, а Сталин — провинциал, но как организатор аппарата власти и его правитель, наоборот, Сталин — гигант, а Троцкий — дилетант.
Как теоретик ортодоксального марксизма, Бухарин — первоклассный ум, а Сталин — примитивный кустарь; но как прагматический император и политический эксплуататор марксизма, Бухарин — дитя, а Сталин — уголовный уникум.
Чтобы познать до конца драматизм внутрипартийных событий и психологию их ведущих представителей недостаточно быть историком КПСС.
Есть в этих событиях, приведших, в конце концов, к установлению тирании Сталина, также ситуации, когда добросовестный летописец может только беспомощно капитулировать перед сфинксом незадачливости соперников Сталина. Насколько ясно, что каждое слово Сталина, каждый его тактический шаг бьют в одну точку — в точку власти, — настолько же смутны представления его соперников о своих целях, интересах, перспективах. На девять десятых свои собственные задачи Сталин решает их антисталинскими руками.
Обычно было принято считать Сталина «серой скотинкой» в руководстве большевистской партии и человеком «посредственных способностей» — в политике. В лучшем случае в Сталине признавали «исправного исполнителя» чужой воли. Таким его рисует Троцкий. Таким его привыкли видеть при Ленине, таким продолжали считать и после Ленина. Но Сталин оказался сфинксом даже для его ближайших друзей и былых единомышленников. Нужна была смерть Ленина, чтобы «сфинкс» начал обрисовываться. У сталинцев свое особое понимание политики, тактики и стратегии. Да и партию свою они считали и считают партией особого, «нового», типа. Чтобы до конца понять и смело лавировать в темнейших лабиринтах этой специфической «новой политики», надо было обладать одним непременным качеством: свободой от старой политики. Сталин, конечно, знал и «старую политику», но знал лишь «посредственно», и в этом тоже было его величайшее преимущество: он меньше болел «детской болезнью» наивности в политике. Он был свободен от всех морально-этических условностей в политической игре. Троцкий не признавал Сталина и как теоретика партии. В марксизме, как политической доктрине коммунистов, его считали круглым невеждой. И это тоже было преимуществом Сталина. Он был свободен от догматических оков марксистской ортодоксии. «Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на точке зрения последнего», — говорил Сталин на VI съезде партии, накануне Октябрьской революции.
В «новой политике» и «партии нового типа» Сталин не признавал ни романтики исторических воспоминаний, ни законов исторической преемственности. Приписывая Троцкому свои собственные намерения в будущем (к чему он довольно часто прибегал в других условиях и по другому поводу), говоря, что Троцкий хочет якобы развенчать «старый большевизм», чтобы вычеркнуть из истории Ленина для утверждения собственного величия, Сталин сам был внутренне свободен от чинопочитания даже по отношению к Ленину. В «новой политике» Сталин держал курс на «новейшее». Очень характерны его слова на этот счет: «Возможно, что кой-кому из чинопочитателей не понравится подобная манера. Но какое мне до этого дело? Я вообще не любитель чинопочитателей… (Сталин, Соч., т. 12, стр. 114). Поэтому Сталин признает и «старых большевиков» постольку, поскольку они способны стать «новыми». Вот и другие очень характерные его слова, произнесенные на том же апрельском пленуме:
«Если мы потому только называемся старыми большевиками, что мы старые, то плохи наши дела, товарищи. Старые большевики пользуются уважением не потому, что они старые, а потому, что они являются вместе с тем вечно "новыми"» (там же, стр. 1–2).
Делая маленькое отступление, я должен тут же отметить общеизвестный факт: Сталин, конечно, признавал и вознаграждал чинопочитателей, но тех, которые коленопреклонялись только перед ним одним. И, придя к власти, он доказал, что ставит себя выше Ленина и как теоретика, и как политического вождя. Вот чрезвычайно яркая иллюстрация к этому. В «Философском словаре» 1952 г., изданном под редакцией П. Юдина, есть косвенное сравнение Сталина с Лениным. О Ленине там сказано: «Ленин — величайший теоретик и вождь международного пролетариата». В том же словаре о Сталине говорится: «Сталин — гениальный теоретик и вождь международного пролетариата». Ленин — лишь «величайший», а Сталин — «гениальный»!
Нужно сказать, что и такая внутренняя свобода Сталина от ленинских норм, традиции и «чинопочитания» по отношению к Ленину тоже была сильнейшей стороной Сталина, как «нового политика».