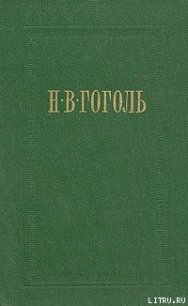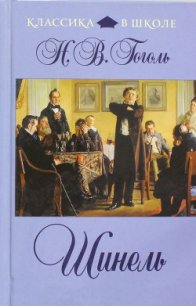Гоголь в русской критике - Пушкин Александр Сергеевич (читать книги онлайн бесплатно полные версии .txt) 📗
Мы хотим здесь дать отчет о представлениях московского театра, предоставляя другим определить место в русской литературе комедии г. Гоголя. Итак, исполним свою обязанность и дадим ответ на три вопроса: когда сыграна? как сыграна? и как принята новая комедия?
«Ревизор», комедия в пяти действиях, в прозе, представлена в первый раз на московском театре мая 25 дня. Она дана была два раза сряду и потом, через два дня, в третий раз. Представлению предшествовала на хвосте афиши обыкновенная повестка или фраза, изобретенная кем-то очень остроумно для возбуждения любопытства публики и увеличения продажи билетов, то есть «в непродолжительном времени», и т. д. Эта фраза потеряла все свое достоинство с тех пор, как надоела московской публике, повторяясь равно перед «Паном Твардовским» и балетом «Розальдою» сочинения г-жи Гюллень, перед «Жоко» и перед новою совою и луною во «Фрейшице». [335] Судите же милостиво, могла ли подобная фраза обратить чье-нибудь внимание? Она в Москве очень похожа на еженедельное объявление, что «за Рогожской заставою дикая лошадь, поражая медведя зубами, приведет почтеннейшую публику в немалое удивление». Итак, это сильное средство не могло действовать на публику. Что ж на нее действовало? Инстинктуальное чувство, которое сказало, что комедия Гоголя должна быть хороша, потому что в Петербурге обратила на себя просвещенное внимание и не понравилась только двоим, то есть гг. Сенковскому и Булгарину, покровителям посредственности, литераторам, занемогающим чужими успехами, людям раздражительным, припадочным, как все их соотечественники. Так точно и было. Никто не обращал на их горячность внимания, всякий желал видеть «Ревизора». Вперед и вдвое давали за билеты. Прибавьте и то, что в известном круге людей внимание к пиесе возбуждалось давно не виданным участием и заботливостью артистов. Эти последние обрадовались комедии Гоголя, потом, видимо, оробели, совершенно справедливо предчувствуя, что если и тут, так же как в «Горе от ума», будет неудача, то судьба их кончена во мнении публики, что в ней пробудится, наконец, неотразимое желание переменить персонажи, явится слишком ярко сознание их недостатков; а что значит актер, возбудивший в публике желание переменить себя? Он становится бутафорною принадлежностью. Это они предчувствовали, боялись комедии Гоголя, и, увы! предчувствие многих не обмануло. Так всегда необыкновенное произведение, появляясь, ведет за собою тысячи незаметных, повидимому ничтожных происшествий, понятий, чувств, которые составляют в сумме своей то, что называется движением вперед. Слово страшное для посредственности: она сознает это, но не признается в том и мстит причине своего уничижения нелепою клеветою, кривыми толками или наглым уверением, что мы и видели. Наконец, был объявлен спектакль, и, к общему удовольствию, московская дирекция воспользовалась благоразумным распоряжением петербургской, то есть дозволила записывать билеты за несколько представлений желающим. Эта безделица, упущенная прежде из виду, стоила уже сотням людей здоровья. Теперь филантропия взяла свои права и у продажи билетов: спасибо ей! Наступило представление, театр полон, музыка загудела что-то старое — слушать нечего — осмотримся.
Спектакль в Малом театре. Большой переламывают. Следовательно, лож вполовину менее и публики также. По общему закону и порядку, места эти достаются лучшей публике, что так и быть должно; а кто привык к Москве, тому стоит оглянуться в театре, чтобы видеть, какая публика посетила спектакль. На первом представлении «Ревизора» была в ложах бельэтажа и бенуарах так называемая лучшая публика, высший круг; кресла, за исключением задних рядов, были заняты тем же обществом. Не раз уже было замечаемо, что в Москве каждый спектакль имеет свою публику. Взгляните на спектакль воскресный или праздничный: дают трагедию или «Филатку», играют Мочалов, Живокини; [336] кресла и бельэтажи пусты, но верхние слои театра утыканы головами зрителей, и вы видите между лесу бород страусовые перья на желтых шляпках, раек полон чепчиками гризеток, обведенных темною рамою молодежи всякого рода. Посмотрите на тот же театр в будни, когда дают, например, «Невесту», «Роберта»; [337] посетители наоборот: низ, дорогие места — полны, дешевые, верхние — пусты. И в этом разделении состояния и вкусов видна уже та черта, которая делит общество на две половины, не имеющие ничего между собою общего, которых жизнь, занятие, удовольствия разны, чуть ли не противоположны, и, следовательно, то, что может и должно действовать на одних, не возбуждает в других участия, занимательное для круга высшего не встречает сочувствия в среднем.
Итак, публика, посетившая первое представление «Ревизора», была публика высшего тону, богатая, чиновная, выросшая в будуарах, для которой посещение спектакля есть одна из житейских обязанностей, не радость, не наслаждение. Эта публика стоит на той счастливой высоте жизни общественной, на которой исчезает мелочное понятие народности, где нет страстей, чувств, особенностей мысли, где все сливается и исчезает в непреложном, ужасающем простолюдина исполнении приличий. Эта публика не обнаруживает ни печали, ни радости, ни нужды, ни довольства не потому, чтобы их вовсе не испытывала, а потому, что это неприлично, что это вульгарно. Блестящий наряд и мертвенная, холодная физиономия, разговор из общих фраз или тонких намеков на отношения личные — вот отличительная черта общества, которое низошло до посещения «Ревизора», этой русской, всероссийской пиесы, возникнувшей не из подражания, но из собственного, быть может горького, чувства автора. Ошибаются те, которые думают, что эта комедия смешна, и только. Да, она смешна, так сказать, снаружи; но внутри это горе-гореваньице лыком подпоясано, мочалами испутано. И та публика, которая была в «Ревизоре», могла ли, должна ли была видеть эту подкладку, эту внутреннюю сторону комедии? Ей ли, знающей лица, составляющие пиесу: городничего, бедного чиновника министерства, которому нечего есть, уездного судьи и т. п., ей ли, знающей эти лица только из рассказов своего управляющего, видевших их только разве в передней, объятых благоговейным трепетом, — ей ли, говорим, принять участие в этих лицах, которые для нас, простолюдинов, составляют власть, возбуждают страх и уважение? Мы сбираемся итти к судье или городничему, думаем, как говорить и что сказать ему, а публика, о которой говорим теперь, кличет судью, зовет городничего и велит им повременить, подождать или разве из особенной милости посидеть в зале. Различие необъятное: смотреть на предмет сверху или снизу — не заботиться об нем, если вовсе не презирать, и уважать, если не бояться! Что значит для богатого вельможи будничная, мелочная жизнь этих чиновников? И как много значит она, какое влияние имеет на класс, от них зависящий? С этой-то точки глядя на собравшуюся публику, пробираясь на местечко между действительными и статскими советниками, извиняясь перед джентльменами, обладающими несколькими тысячами душ, мы невольно думали: вряд ли «Ревизор» им понравится, вряд ли они поверят ему, вряд ли почувствуют наслаждение видеть в натуре эти лица, так для нас страшные, которые вредны не потому, что сами дурно свое дело делают, а потому, что лишают надежды видеть на местах своих достойных исполнителей распоряжений, направленных к благу общему. Так и случилось. «Ревизор» не занял, не тронул, только рассмешил слегка бывшую в театре публику, а не порадовал ее. Уже в антракте был слышен полуфранцузский шопот негодования, жалобы, презрения: «Mauvais genres!» [338] — страшный приговор высшего общества, которым клеймит оно самый талант, если он имеет счастье ему не нравиться. Пиеса сыграна, и, осыпаемая местами аплодисманом, она не возбудила ни слова, ни звука по опущении занавеса. Так должно было быть, так и случилось! Ни один актер не был вызван, и мы слышали, выходя из театра, как иные в изумлении спрашивали: что же это значит? Эти иные забыли различие публики или не знают, что даже в удовольствиях уже прошла та неизгладимая черта, которая делит общество, достигнувшее известного развития, на две параллельные, никогда не сходящиеся полосы. Смешно другим покажется, что мы увидали это в представлении «Ревизора»; а тут-то, где менее всего требований, где, казалось бы, все одинаково могут одобрять или нет спектакль, тут-то, в этих, повидимому, безделицах, и обнаруживается то, что каждая сторона скрывает так тщательно: высшая — из благоразумия, низшая — боясь показаться необразованною, не смея сказать, что ей не нравится то, что любят люди знатные. Недоразумение, и только, как и всякая странность общественная!
335
«Пан Твардовский» — опера А. Н. Верстовского; «Жоко» — переводная мелодрама; «Фрейишц» — романтическая опера Вебера.
336
«Филатка и Мирошка, соперники» — водевиль Н. Г. Григорьева.
337
«Невеста» — опера французского композитора Обера; «Роберт-дьявол» — опера немецкого композитора Мейербера.
338
Mauvais genre (франц.) — негодный жанр, дурной стиль. — Ред.