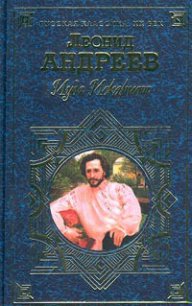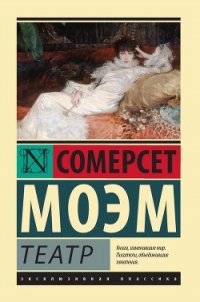Театральные взгляды Василия Розанова - Руднев Павел (читать книги бесплатно .txt) 📗
Я говорил в волнении и почти в досаде, что человек до такой степени виден. Но, на самом деле, когда я слушал речи, и в них я заметил у Станиславского… красиво умное, картинно умное. Но о речах — потом. Теперь же, под возражением «какой у него подбородок», я стал обдумывать частности его лица, и отмечу следующее, для потомства. Так как основатели Художественного театра, конечно, суть исторические лица, и о них нужно все знать. Действительно, лицо у него, скорее, некрасивой лепки: ничего «смазливого» и «хорошенького»… Но, ведь, это же в мужчине — безобразие, все «смазливое» и «красивенькое». Это — тип женщины, тон женщины: уродство, когда встречается у мужчины. У Станиславского крупное, очень видное лицо, немного неправильных, не изящных линий, именно: мужское. «Повелитель и господин», которому нет дела «до мелочей»… Украшением головы служат собственные белые волосы, немного взъерошенные и короткие, небрежно поднятые «пятерней», что ли, но едва ли гребенкою. «Гребенкою пусть чешутся женоподобные мужчины, а я король, и буду чесаться пятью пальцами». Волосы эти совершенно белые, без единого черного или темного, или серого. И, между тем, под волосами лицо еще совершенно свежее, почти молодое; чуть-чуть красноватое; необыкновенно жизненное и ласковое.
Все это — на высоком росте; но высоком без излишества (не «дылда»). Все пропорционально с широтою плеч. Ничего выдающегося; ничего, что бросилось бы в глаза, кроме «общего». Ничего выдающегося… кроме того, что «этот человек сразу же всеми замечается», едва вошел в зал, и еще, — что все другие, даже женщины, даже очень молодые и красивые, вдруг перестают замечаться с момента, как он вошел в зал. Еще: я не видел и умел бы представить его сидящим в кабинете (маленьком) или присевшим на подоконник, на угол стола, — и «болтающим» с приятелем. В «маленькой компании» он мне не представим. Почему-то я не думаю, чтобы он мог быть интимен, задушевен. Лицо его, фигура его требуют зала или большой гостиной; ему неудобно на стуле: нужно подать кресло, и, чтобы «договорить» или выговорить тайный голос Природы, ему нужен — трон… Ну, на сцене, ну — театральный, какой-нибудь, но что-нибудь вообще ближе стоящее к трону, более напоминающее трон…
Стали говорить… Полились речи… Станиславский быстро и скоро одушевился. Ни тени позы, деланности, эффекта. Ни тени любования собою и вообще «сознания своего значения». Заговорил вдруг художник, полный увлечения. И тут выступила черта тоже физическая, но которая положила грань и венец на всю его замечательную физику: в одушевлении — он улыбался иногда, как бы моментально задумавшись; и когда (по ходу речи, спора) ему приходилось улыбнуться раза три подряд, — последняя, третья, улыбка была совершенно детская. Это — поразительно, но я точно заметил, и тоже записываю это «для потомства»: ведь, на портретах не передается улыбка человека, т. е. главное в человеке, или начало главного. Вся вообще улыбка, видная улыбка Станиславского содержит что-то очень доброе, приветливое в себе, дружелюбно расположенное к спорщику; это что-то в высшей степени деликатное и нежное, — на лице столь типично мужском. Но когда он очень увлечен и говорит уже долго, — он улыбается в третий раз, и вы с изумлением замечаете что-то наивное и детское или страшно-страшно молодое, отроческое в линии, появившейся в губах. «Вот он, прервав спор, сейчас присядет к полу, и заиграет со спорщиком в детские игрушки, да так весело и беззаботно». Его речь, художественная и поэтическая, наконец, умная, — носила последний чекан, еще и этой прелести — беззаботности!
«Счастливый человек!» — подумал я. — «Нет, это непременно очень счастливый человек… У него не было разочарований; он не плакал над недостигнутым; никакого томления, грусти. Никогда — отчаяния».
Станиславский — удачный мастер великого театрального ремесла.
При слове «ремесла», однако, он затопал бы ногами. Здесь я приведу не буквально, но очень точно отрывки его речи, объясняющие многое и в нем, и, вероятно, во Вл. Ив. Немировиче-Данченке, и, вообще, в Художественном театре: он возражал г. Евреинову, вместе с бароном Дризеном основавшим в Петербурге «Старый театр» {558}.
«Театральность, сценичность пьес… Так называемая их сценичность, т. е. соответствие тем шаблонам актерской игры, к которым они привыкли, традиционно привыкли… Здесь говорят, что я предан театру. Но ни минуты, ни одной тысячной доли минуты своей жизни я не пожертвовал бы тому, что называют театральностью. Если я что ненавижу всеми силами своей души, к чему питаю неодолимое отвращение, что, наконец, презираю всеми способностями ума и борьбу с чем я считаю своим призванием, то это — с театром».
Я слушал изумленно. Все тоже разинули рот.
«Театр — враг мой. Щепкин был гениальный актер, но то, что вынесено из гениальной его натуры, эти „щепкинские приемы игры“, — запомнились и увековечились на сцене. И тысячи актеров, уже вовсе не Щепкиных, повторяют в своей игре его приемы, ни мало не связанные с их натурою, теперешних актеров, которая, однако, есть, у каждого актера своя… Но она убита, затерта: на место этой своей натуры актера выступила традиция сцены, дьявольская и деспотичная традиция, шаблонная и деревянная. И зритель, приходя в театр, только и видит скопище этих деревянных форм, этих заученных интонаций, ужимок, традиционных движений около будки суфлера, около занавеса, в глубине сцены. Будьте уверены, что ничего подобного не говорится и не делается в жизни, что говорят актеры под приподнятым занавесом, среди наставленных крашеных своих декораций… Ни этих любовников, ни этих героинь и героев, ни этих якобы „бытовых лиц“, — все другое… Жизнь убита на сцене; сцена стала… чем-то an und für sich [33] каким-то „искусством для искусства“ или, скорее, каким-то самодовлеющим, самодовольным ремеслом, самоуслаждающимся… Все начала и концы которого, корни и цветы находятся исключительно на сцене и дальше рампы не простираются… Вот, эту театральность, этот театр я ненавижу всеми силами души и уничтожению его служу»…
Мы стали понимать: он хочет вернуть театр к его первоначальной мысли: повторить жизнь, воспроизвести жизнь.
Действительно, на подмостках театра накопился слой, накопился толстый пласт традиционности собственно сценической, театральной, «по примеру Щепкина», «по примеру Садовского», «по примеру Шумского» {559}, и проч., и проч., и т. п., и т. п., — который совершенно разорвал единство и общность сцены и жизни, сломал между ними мостик. Сцена стала отвлеченною, стала «академическою» же, как бывает «академическая литература», только своеобразно, в своем особом роде и жанре; сделалась высохшею, несмотря на смех и прыжки, и беганье актеров и актрис по сцене, и кажущуюся «веселость» публики… Все это высохло, превратилось в мумию.
Эта мумия — театр, «как он есть».
Смыть этот слой исторической «затоптанности»…
Сломать будку актера, самую рампу…
Сорвать бы самый занавес, если можно…
И пустить на сцену «жизнь, как она есть»… Не всю, не всякую, ибо это был бы хаос. Не случайную и минутную, ибо она может и не представлять интереса. Но кусочек, избранный кусочек жизни, с наибольшим интересом и значением в ней, отразившийся в уме и понимании художника-автора, художника-«творца пьесы».
Вот и все. Так просто.
Отсюда — слияние двух восклицаний:
— Я так ненавижу театр, как ничто на свете!
— Потому что я так его уважаю и люблю, как ничто на свете!
Среди иллюстраций Станиславского мелькнула одна:
«Как-то, в бытность в Италии, я сидел в лесу, близ Флоренции {560}. Я сел на траву и стал перебирать в уме все те пьесы, которые хоть какою-нибудь подробностью, хоть частностью и на минуту оставили во мне впечатление… По афишам это легко сделать»…