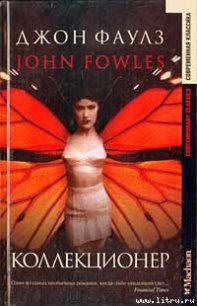Кротовые норы - Фаулз Джон Роберт (книги серии онлайн .txt) 📗
Еще один способ нарушить обстоятельность – замазывать ее импасто, то есть наложением красок слишком густым слоем. На протяжении целых двух страниц, пока лошади влекут Ватсона в Баскервиль-Холл, прилагательные «темный», «мрачный», «черный» (дартмурские граниты, кстати говоря, не черные) и их синонимы так испещряют строки, что начинаешь чувствовать себя где-то в прошлом, чуть ли не рядом с миссис Радклиф и «Монахом»Лыоисом 257. Гораздо более серьезная неудача ослабляет правдоподобие двух женских персонажей книги. Конану Дойлу всегда не везло с образами женщин, особенно там, где ему так удавались мужчины, – в диалогах, и ни Лора Лайонс, ни миссис Стэплтон не смогли подняться над поздневикторианским стереотипом «скомпрометированной дамы». Разговор Лоры с доктором Ватсоном – ярчайший образец самой тривиальной и искусственно-театральной сцены (даже если сделать скидку на уровень «протоколиста») во всей книге.
Однако наименее удачным из всех мне кажется образ негодяя. Стэплтон с его «постной физиономией» выглядит бледной тенью рядом с собственным диковинным орудием убийства, а его пристрастие к энтомологии, мания гоняться в соломенной шляпе за английскими бабочками, никак не соответствует ни его прошлому, ни его настоящему. Следует предположить, что это обстоятельство было добавлено по старому принципу детективных рассказов-сказок – держать преступника хорошо упрятанным за пазухой. Я уже упоминал выше, что в данном конкретном случае такое упрятывание было крайне необходимо. Дымовая завеса на этом уровне все-таки сработала (хотя оказалась гораздо прозрачнее, чем в «Долине ужаса»), но за счет правдоподобной психологической мотивации. Думаю, я понял, почему Конан Дойл позволяет Стэплтону умереть тихой смертью в Гримпенской трясине: не тот это человек, чтобы суметь в ином случае убедительно объясниться. И в самом деле, кроме Холмса и Ватсона, все остальные персонажи книги представляют собой весьма жалкое зрелище; с этой точки зрения можно с грустной иронией сравнить все это с прямо-таки диккенсовской сочностью и очарованием «Знака четырех».
Следует также покритиковать книгу и с точки зрения изобретательности. В ней слишком явно недостает чистого расследования и слишком обильно представлена глупость Ватсона, то и дело идущего по ложному следу; слишком многое нарочито подстроено (и слишком многое приносится в жертву), чтобы подвести к развязке, от которой кровь стынет в жилах. Собака должна мчаться вслед жертве, и более правдоподобные варианты развития действия выбрасываются на ветер. Всю свою жизнь Конан Дойл был увлеченным, даже фанатичным, и при том отличным игроком, участником самых разных настоящих игр, и в его работах мы наблюдаем, так сказать, конфликт между интеллектуалом и игроком в крикет (такой же конфликт – между «серьезным» искусством и искусством карикатуры – был характерен для всей его семьи). Он был боулером в крикете, занимавшим чуть ли не первые места в графстве 258. – Примеч. авт.], был очень хорош с битой, и, как мне представляется, вовсе не из тех, кто держится в сторонке. В «Собаке Баскервилей» можно почувствовать, как он, словно игрок с битой, идет на риск, чтобы задать жару у калитки, забивая точные мячи на правую сторону поля или отбивая мячи драйвом… но и пропуская достаточное их количество. Конечно, живость его повествования во многом обязана его любви к агрессивным видам спорта, таким, как крикет и бокс, их четко установленным правилам, требующим быстроты и живости, энергичной физической и психологической, мысленной реакции. Но в «Собаке Баскервилей» перед нами не самая успешная из его мысленных подач.
Требование мудрости и разума от развлекательной книги может показаться слишком беспощадным, и, конечно, мы не можем требовать «мудрости и разума» от простака Кандида. Но я полагаю, мы все-таки можем требовать несколько более того, что получаем. Ирония заключается в том, что множество других рассказов о делах Холмса в этом отношении нас удовлетворяют гораздо полнее, хотя и на материале, потенциально гораздо менее плодотворном. Может быть, неудача станет нам более заметной, если мы сравним «Собаку Баскервилей» со «Странной историей доктора Джекила и мистера Хайда» 259, в том смысле, что первая остается экзотической историей о странном убийстве, тогда как вторая поднимается на гораздо большую символическую высоту, что происходит и с лучшими рассказами Эдгара По.
Неудача с чуть более искусным использованием предлагаемых самим материалом шансов, ощущение упущенных богатейших возможностей есть, несомненно, цена, уплаченная за те достоинства, которые я поместил на правой, кредитной стороне счета: замечательный дар быстро развивающегося повествования, и в частности повествования, изложенного посредством диалога. Даже самая интимная беседа – вещь квазипубличная: очень немногие из нас думают вслух столь же откровенно и глубоко, как мы думаем про себя, в уме. А ведь единственный человек в замкнутом мире Бейкер-стрит, который порой размышляет над более широкими и скрытыми смыслами, которому дарована роскошь обобщений, – это сам Шерлок Холмс; однако он отсутствует на протяжении почти половины книги, и нам приходится в гораздо большей степени, чем обычно, обходиться буквалистскими и неумелыми взглядами доктора Уотсона на все, что происходит. Гораздо больше, например, можно было бы построить на символическом характере самого образа собаки – ведь Холмс тоже похож на собаку-ищейку с его хитростью, несгибаемым упорством, молчаливым терпением, способностью выслеживать добычу, яростной концентрацией всех сил и качеств в погоне по горячим следам. Квартира на Бейкер-стрит – его конура, и когда он не охотится, он скучает и огрызается, и вправду словно пес. Мы поглощены сюжетом, мы задыхаемся от недостатка воздуха – нам некогда вздохнуть, все более темные тени и глубины надвигаются на нас, возникают все более страшные столкновения между человеком и природой, между человеком и силами зла, меж человеком и его прошлым. Все происходит слишком быстро, слишком наглядно, события громоздятся друг на друга, словно это фильм по книге, а не сама книга. Такая быстрота не имеет большого значения в коротком рассказе, где существенна сжатость; однако в длинном повествовании этот метод дает не очень удачные результаты; возможно, поэтому Конан Дойл написал их совсем немного. Показательно, что он вернулся к другому способу в других двух длинных – и художественно гораздо более убедительных – произведениях. Более половины «Долины ужаса» занято «обратными кадрами» Мак-Мурдо, в то время как даже Джонатан Смолл получил лишь четверть текста в «Знаке четырех».
Но теперь, когда все сказано и все жалобы перечислены, настоящим преступником здесь, возможно, будет не столько сам Конан Дойл, сколько недостаток, внутренне присущий жанру детективного повествования. Какой бы фантастической и высоко залетевшей ни была первая часть детективной истории, вторая ее часть просто обречена опуститься (и очень часто просто плюхается с треском) до четкого и правдоподобного обыденного решения. Главной тенденцией здесь должен быть отказ от всего, что несет в себе фабула, кроме идентификации убийцы. В этом – основной источник рождения триллера из собственно детективного сюжета. Тогда кто-нибудь вроде Чандлера сможет критиковать Америку за правые взгляды, а Ле Карре исследовать психологию обмана так, как не позволяла смирительная рубаха старых формульных правил, в соответствии с которыми решались проблемы в произведениях детективного жанра.
В случае Конана Дойла нам в конечном счете достаются превосходные карикатуры и непревзойденная методика повествования, а еще – сочувственное сожаление. Он так никогда и не осознал, что было его величайшим талантом. Но это лишь свидетельствует о том, что он был настоящим художником, а вовсе не исключением.
Мне не хочется заканчивать эссе на такой, по всей видимости, чрезмерно теоретической и пуританской ноте. Острота карикатур до сих пор остается неувядаемой, а непреходящая привлекательность (еще усиленная очарованием прошлого – есть ли что-нибудь, что издает более сильный аромат той эпохи, чем три заключительных предложения романа?) саги о Холмсе и Ватсоне слишком убедительно и повсеместно доказана, чтобы допустимо было говорить о крупном провале, а не о мелких недочетах. На бумаге все мы умеем помочь животным выжить гораздо лучше, чем сама эволюция сочла нужным это сделать, умеем дать зрение слепым и слух глухим. А потом обнаруживаем, что эта старушка с самого начала и поистине лучше понимала, что она делает, чем мы воображали. Можно придумать более тонкого, умного и более значительного Конана Дойла; однако я полагаю, что весьма показательно то, что трудно представить себе его еще более популярным и неувядающе вечным. Быть всего лишь автором развлекательных книг было бы грешно лишь в мире, где каждый может писать развлекательные книги. Но большинство писателей нашего мира вовсе не готовы позволить такому человеку, как Конан Дойл, совершить этот грех. Они слишком стараются. А его секрет в том, что он старался ровно столько, сколько было нужно.
257
Анна Радклиф (1764– 1823) – английская писательница, автор пяти романов, ведущая представительница жанра готического романа. Одна из первых писателей Англии, придававших большое значение описанию пейзажа, погоды и эффектов света.
Мэтью Грегори Льюис (1775-1818) – английский писатель, автор готического романа «Монах» (1796), откуда и получил свое прозвище. Испытывал сильное влияние немецкого романтизма. Писал также драмы и стихи, в свою очередь оказавшие некоторое влияние на ранние стихи Вальтера Скотта.
258
Если самым важным событием для него в 1901 г. было возрождение Холмса, то годом раньше таким событием вполне могла быть его реальная – и блистательная – победа в крикетном матче над самим У. Г. Грейсом[Уильям Гилберт Грейс (1848-1915) – английский игрок в крикет, никем из его современников не превзойденный.
259
«The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde» (1886) – роман Р.Л. Стивенсона (1850-1894).