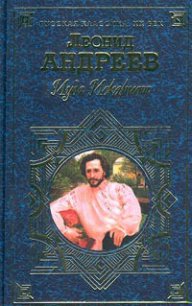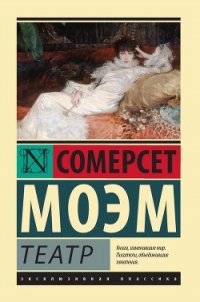Театральные взгляды Василия Розанова - Руднев Павел (читать книги бесплатно .txt) 📗
Но пока, в 1902 году, античная экспансия в культуру Петербурга почти не принесла плодов: полтора года подготовки к спектаклю, тринадцать тысяч израсходованных рублей — и всего тринадцать спектаклей, каждый из которых не приносил и пятисот рублей сбору. Опыт античной стилизации не был понят и развалившейся, разболтавшейся труппой, откуда в начале сезона ушла Комиссаржевская. Розанов, как и Александр Кугель, сетуют на отсутствие в русском театре каких бы то ни было классических традиций. Кугель пишет, что ставить Еврипида уместнее там, где со сцены не сходит Корнель и Расин, — тогда результат будет действительно значителен. В русской культуре даже отечественный классицизм не оставил ощутимых эстетических результатов, во всяком случае к началу XX века они уже рассеялись. И поэтому Тезей (Иван Шувалов) напоминает «одесского армянина-торговца» {204}, кормилица (Антонина Дюжикова) — сваху Островского, Афродита (Екатерина Гамза) — «волчицу, вскормившую Ромула и Рема» {205}, страсть Федры (Вера Мичурина) — «недуг купчихи Белотеловой, испытывающей любовные томления где-то под ложечкой» {206}, а одна из хористок выводила: «свищенныя Фивы» и «пищери глубокия» {207}.
Розанову тем не менее стилизация античного спектакля запала в душу. Позже, отзываясь о гастролях Дункан в России, он позволит себе такое восклицание: «С досадой я смотрел на затянутую серым или зеленоватым сукном сцену, думая: почему не догадались где-нибудь поставить курящийся жертвенник?» {208} Сценографическая идея Мережковского, о которой судачила критика (как будто бы не было в 1899 году курящегося жертвенника в постановке «Антигоны» Александром Саниным в МХТ), тепло отозвалась в розановском сознании.
«Эдип в Колоне»
Статья «Что сказал Тезею Эдип? (Тайна Сфинкса)», опубликованная в журнале «Мир искусства», рассказывает о втором спектакле античной трилогии Александрийского театра по пьесе Софокла «Эдип в Колоне». Здесь Розанов еще меньше уделяет внимания собственно сценическим подробностям, отдавая предпочтение размышлениям над метафизикой пьесы. Видимо, по этой причине эта «философская» статья не была помещена в «эстетический» сборник «Среди художников» (в отличие от рецензии на «Ипполита»). Розанов хотел поместить текст в сборник «Во дворе язычников» (он увидел свет только в 1999 году), где собраны статьи о религиях древности и их взаимоотношениях с христианством.
Сетуя на «меланхолический и жалующийся тон трагедии» {209}, Розанов на спектакле привычно дремлет — как раз в этой статье он ссылается на притупленность восприятия в шестьдесят лет (мы цитировали этот фрагмент в начале книги). И только в финале сон сбегает с глаз — со сцены стали рассказывать о том, что для Розанова «своё». Писателя заинтересовывает сцена перед смертью Эдипа, когда тот уводит Тезея поведать ему сокровенную тайну: «Пойдем в рощу: перед смертью я шепну тебе тайну, которую ты поведаешь перед своей смертью — тоже одному кому-нибудь. И так она будет храниться вечно на земле. Но смертные ничего не должны знать о ней. Ни — мои дочери, ни — народ, никто кроме единого, по традиции, из уст в ухо» {210}. Что же сказал Тезею Эдип? Ни пьеса Софокла, ни спектакль Озаровского, ни перевод Мережковского не отвечали на этот вопрос. Ответил Розанов. Это была его «личная» тайна, тайна Пола, Бога и Смерти, которую философ разгадывал всю жизнь. Об этом Эдипе Розанов вспомнит еще не один раз — в текстах на самые различные темы.
Эдип умирает и уходит в небытие не похороненным — у Софокла есть фраза, что Эдип «без гроба умер» (перевод Сергея Шервинского). Сама процедура смерти скрыта от зрителя — Эдипа на небо забирают боги, укрывая героя облаком, как это обычно описывают в греческих мифах. Розанов сближает Эдипа с Христом, чья тайна смерти также сокрыта от наблюдателей: «его [Эдипа. — П.Р.] психологию по возвращении из рощи нельзя лучше объяснить, как сблизив ее из христианской истории с психологией после какого-нибудь чудесного „видения“, „явления“ <…>И он начал все удаляться от нас, подымаясь над землей… Мы видели, плакали, он благословлял нас; но ног его мы у же не могли обнять» {211}. Розанов в последний раз отдает долг навязчивой идее Мережковского о христианских мотивах в позднеэллинском искусстве и к концу статьи благополучно забывает о необходимости «поддерживать» идеологию друга. Розанов свойски блуждает в мирах, весьма далеких от христианства.
В финальных еврипидовских хорах Розанову начинает грезиться на сцене восстановленный погребальный обряд, надгробные причитания по воскресшему-умирающему богу. Вполне вероятно, что финал четвертого эписодия в спектакле был сочинен Озаровским и Мережковским именно в этом ключе. Многие критики, не один только Розанов, говорят о каком бы то ни было сценическом ритуале, подводящем постановку к финалу. Розанову кажется, что Софокл, невольный соглядатай Элевзинских мистерий, попытался «вшить» в материал драмы, дословно «процитировать» обрывки настоящих ритуальных причитаний. Мистерии были закрыты для непосвященных, и Софокл «предательски» выкрал жреческие тайны и в пьесе чуть-чуть приоткрыл тайну смерти, о которой говорит Эдип Тезею. Софокл, раз и навсегда уловленный в сети элевзинских мистерий, движим той же зачарованностью, которой, как мы видим, движим и сам «сказитель» Василий Розанов: «Возможно, что в Элевзинских таинствах, где кроме радостного было и „пугающее“, и притом „зрительно пугающее“, было такое же точь-в-точь зрелище, и эта часть бутафории перенесена в трагедию прямо оттуда. Она только пугает зрителя, ничего ему не объясняя, пугает, настраивает, подготовляет» {212}.
Парадокс софокловой драмы состоит в том, что Эдип в своей судьбе движется от слепоты в своих поступках к зрячести, прозорливости слепого, от незнания к познанию. Тайну, которую ему доверил Сфинкс, невозможно рассказать никому другому, потому что тайна эта — залог несмешивания того мира и этого, хранительница гармонии во Вселенной. Благодаря его тайне земля, в которой погребен Эдип, должна стать благословенной. С этой тайной «в руках» Эдип, самый аморальный, самый преступный человек на Земле, становится святым, словно держит при себе дарованные богами ключи от ворот рая.
Тайна Пола тождественна религиозной тайне — аксиома и для Мережковского, и для Розанова, и для Софокла: «Sexus и Deus как бы двое малюток в одной люльке — ласкаются ручонками» {213}. Сквозь половые аномалии — те, с которыми столкнулся Эдип, — мы, по Розанову, постигаем самые глубинные секреты религиозного сознания: «Для чего Софокл это взял сюжетом? Что за закон воображения? Почему он не взял сегодняшнего утопленника, завтра рассказывающего свое приключение, и что он видел под водой, и как ощущал переход от жизни почти к смерти. Здесь нет религиозного страха. Софокл хотел рассказать нам о религиозном ужасе, том ужасе, который владел Симом и Иафетом, несшими одежду для отца и на отца. Не правда ли любопытнейшее совпадение семитического и арийского трепета?» {214} Пол и Бог рядом — и, тем более, в моменты своего апогея, в аномальных, экстремальных проявлениях.