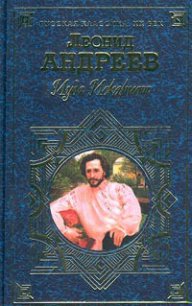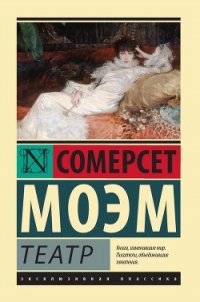Театральные взгляды Василия Розанова - Руднев Павел (читать книги бесплатно .txt) 📗
Мережковскому же, в свою очередь (в период активного общения с Розановым, когда последний наравне с символистами участвовал в работе журналов «Мир искусства», «Весы», «Новый путь» и, безусловно, Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества), удалось на некоторое время погрузить Василия Васильевича в мир эллинских ценностей, которые за блеском египетского золота и шепотом палестинской пустыни не слишком увлекали Розанова.
«Ипполит»
Тема Еврипида, приведшая теоретика Мережковского к практическим театральным штудиям, — противостояние Артемиды и Афродиты, конфликт «сладострастия» и «целомудрия», если судить по названию статьи Мережковского. Тот же принцип, по Мережковскому, формирует и энергетический конфликт, лежащий в основе христианской цивилизации. И именно эта параллель объединяет христианство и древнегреческую цивилизацию как две развивающиеся и перетекающие друг в друга философские системы: «Эврипид понимает, что эта борьба богов есть истинная жизнь людей, что она — биение их сердца, движенье крови, усилие и победа мысли» {175}. Тут, словно лыко в строку, просится на уста знаменитая русская квинтэссенция христианства: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей», и Мережковский в статье «Трагедия целомудрия и сладострастия» явно вызывает именно эту ассоциацию у читателя. Розанов обнаруживает ту же идею противостояния Артемиды и Афродиты (как борьбу аскезы и страсти, сопутствующую всемирной истории) еще в статье «Афродита-Диана», опубликованной в журнале «Мир искусства» в 1899 году.
Конфликт древнегреческой пьесы состоял, по мнению двух русских философов, в том, что Ипполит как человек, ревностно относящийся к вере, отказывается поклоняться двум богиням. Культ девственной Артемиды не допускает поклонения любвеобильной Афродите. Мережковский в этом позднеэллинском отказе от многобожия предчувствует христианскую мораль, не допускающую соединения энергии веры и энергии пола. В «Ипполите» мы становимся свидетелями того, как былая античная веротерпимость переходит в клерикальную нетерпимость. Ни Ипполит, ни Федра не могут преодолеть противоречий культа, которые ранее каким-то образом преодолевались. Греческая цивилизация, по Мережковскому, гибнет от переизбытка взаимопротиворечащих верований. «Новоявленное» христианство, таким образом, попыталось многообразие культов, все страсти греческого Пантеона неравномерно сплавить в одной фигуре христианского Бога: больше — от Артемиды и совсем мало от Афродиты.
Вариации той же идеи мы встречаем в статье Розанова «Афродита-Диана», где уже в названии содержится мысль о переливах, взаимозамещаемости божественных сущностей. Розанов рассматривает изваяния богинь по обеим сторонам сцены в зале Дервиза (тело Афродиты стыдливо обнажено, а царица лесов Диана прикрыта легкими одеждами) и замечает, что стоит «тише-тише совлечь с древних идолов одежды», и Диане, гордой и девственной богине, словно «предмирной» Еве, сразу явится чувство стыда, а значит и греховности — и тут она превратится в Афродиту.
Розанов, который не так неистово, как Мережковский, поклоняется идее смешения языческих и христианских элементов в новейшей истории, находит и эллинский вариант, совмещающий в себе сладострастие и целомудрие. Это Гера, каждое утро, согласно мифу, поднимающаяся с постели девственной: «вечнодевственная» «супруга», «девственница» в «супружестве» {176}. Именно таким чудесным образом «доеврипидовские» греки решали проблему совместимости греха и святости. Для Розанова важно, что грех оказывается преобразованным, «рассосавшимся» именно в семейных отношениях, ибо брак Зевса и Геры, не вполне нравственно чистый с европейской точки зрения, — это, безусловно, эталонный брак для морального кодекса Древней Греции. Итак, Древняя Греция, по Розанову, дала идеал семейного благополучия, где первородный грех оказывается прощенным, религиозно оправданным: «Задача всей природы лежит в вечном переходе в „матерь“, обегая наше неумелое и запакощенное „супружество“» {177}.
Примерно тот же контекст Розанов усматривает и в ветхозаветных сюжетах (семейные отношения Вооза и Руфи), и, что более ценно, в новозаветном образе Святого Семейства с «„вечным разрывом фаты“, с вечным сохранением ее целости» {178}. Богоматерь, сохранившая в себе способность зачатия (пусть непорочного), но и святость, целомудренность. Логично также и то, что ребенок, родившийся в этом священном браке, становится Спасителем, пришедшим на Землю простить грехи матери и с нею — всех людей на земле, искупить последствия первородного падения.
Этот непростой христианский механизм совмещения греха и святости лишь мнимо бесконфликтен. Тут для Розанова и открывается «мир неясного и нерешенного». Неясно, прежде всего, то, почему эта ясная мифология, заложенная в ортодоксальной христианской мистике, на деле «не работает» в церковной практике, не признана на уровне религиозного быта. Розанов вспоминает следующий разговор: «Ну, бабушка, скажите мне, от кого родятся дети», — спросил я ее. — «От Бога», — ответила она мне с таким чувством, что как бы только глупый может в этом сомневаться, или не верящий в Бога — об этом серьезно спрашивать. Это было за чаем. Входит ее дочь, женщина 40 лет, мать 5-х прелестных детей. Продолжая думать об этой теме, я и ее спросил: «Скажите, В. А-на, вот мы говорим с вашей мамой о детях, и я не понимаю, откуда же очистительная молитва над роженицей?» — «Как откуда?» Она немножко смутилась: «Все-таки дети зачинаются из греха» {179}.
Вот дилемма христианства, измучившая и Розанова, и Мережковского, и (да будет позволена такая чересполосица) Ипполита, и Федру, и Еврипида. При всей мнимой возможности совместить грех и святость, современным христианам приходится мучаться так же, как Федре и Ипполиту — в выборе между чистотой веры и чистотой любви. Христианство оцеломудрило, иссушило человечество — и Мережковский с Розановым справедливо сравнивают Ипполита с истинным христианином, человеком «лунного света» и дальше — с самим Христом. Ипполит в будущем — это благородный рыцарь, защитник веры Христовой, или даже сам папа, навечно вверяющий свою душу в «руки» Святой Девы — Дианы.
В статье «Афродита-Диана» Розанов вспоминает, что раннехристианский мыслитель Юстин-философ смеялся над Праксителем, который изваял женщину, родившую семнадцать детей [17]/ То, что составляет предмет восхищения семитов, — величественное лоно Авраамово — для позднеэллинской философии «пустое слово», а для христианства тем более — предмет стыда. Точно так же для Ипполита Федра с ее любовной горячкой — лишь «тварь», «зараза». Мережковского вслед за Розановым в фигуре Ипполита интересует половая аномалия, врожденная патологичность мировосприятия. В книге «Люди лунного света» (1910) Розанов назовет этот тип людей, подверженных религиозному экстазу, «бородатыми Венерами», женоподобными мужчинами. Ипполит для него — «это влечение к полной и нетронутой целокупности себя, отталкивание от всякого общения с другим полом, вечная девственность…» {180}, суть его целомудрия — «в пассивном отвращении, в неведении, в отрицании… материнства» {181}.