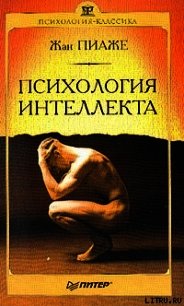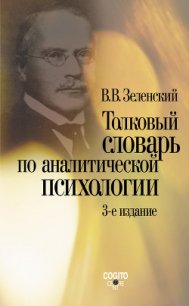Психология искусства - Выготский Лев Семенович (книги регистрация онлайн бесплатно TXT) 📗
Вот удивительное сплетение земного и потустороннего в Гамлете {112} – та грань, по которой он идет все время, грань жизни и смерти. В этом трагедия: Гамлет хотел бы избавиться от жизни, навязанной ему рождением, он не хочет нести бремя жизни, кряхтя и потея; но безвестная страна смущает его волю, загробная тайна связывает его. В душе он всегда самоубийца, но что-то связывает его руку. Вопрос, что благороднее, – не отвечен, но Гамлет остается нести «бремя жизни». Этот монолог лучше всего рисует его постоянное состояние на грани, на пороге, на кладбище. В этом смысле понятно его центральное значение в пьесе. Мысль о самоубийстве, скрытая, подавленная, проходит через всю трагедию – самоубийство – смерть Офелии, желание Горацио. Но только немного раз прорывается наружу. Еще раньше Гамлет сказал: «…если бы господь не запретил самоубийства…» Теперь его связывает уже «страна безвестная». Гамлет точно всегда на кладбище. Поэтому эта сцена в смысле душевных переживаний Гамлета непосредственно примыкает к монологу. Эта сцена вообще глубоко знаменательная и символическая. Но для состояния Гамлета она так же характерна, как грань, точно так же, как и монолог, как и сцена с актерами, – там грань тоже, только иная. Здесь состояние души Гамлета оттеняется светом, отбрасываемым на него могильщиками. Гамлет и могильщики – два разряда людей, простых, обыкновенных, земных, по-земному, цинически понимающих смерть, и человека отмеченного, который в душе всегда на грани жизни и смерти. Могильщики всегда на кладбище – среди могил, черепов, трупов, костей могильщики роют могилу и поют о молодости, старости, смерти – балагурят и острят. Они только внешне в могиле, они не задумались, не почувствовали смерти. Несколько простонародно циничные, грустные и веселые в одно время, песни их и разговоры оттеняют полную противоположность Гамлета. Эти слова воплощают их спокойно-равнодушное отношение к смерти, привычное, как к обыкновенному, к жизненному, к будничному; в смерти для них нет ничего удивительного, она для них только неизбежный, неприятный, но привычный эпизод жизни.
Гамлет. еужели он не сознает рода своей работы, что поет за рытьем могилы?
Горацио. Привычка ее упростила.
Гамлет. то естественно. Рука чувствительна, пока не натрудишь.
Гамлет рассматривает черепа. Здесь не рассуждения главное – Гамлет меньше всего рассуждает, – он ощущает, чувствует, переживает. Эти черепа политиков, царедворцев, простых людей, законников, составлявших купчие, приобретателей (замечательная черта: как Гамлету больно говорить с могильщиком, и как могильщик плохо (понаслышке) относится к Гамлету – так что Гамлета не только любит народ). Сцена насыщена таким кладбищенским настроением Гамлета, что, если только проникнуться им, станет невозможно жить – так бесцельно, так бессмысленно делать что-то во внешнем мире. Здесь в Гамлете важны не рассуждения, а глубокое ощущение {113} кладбища и то особое состояние могильной печали, которой насыщена вся пьеса. "Стоило ли давать этим костям воспитание, чтобы потом играть ими в бабки? Мои начинают ныть при мысли об этом ", – говорит он со сдержанным страданием. Гамлет находится в этом здесь подчеркнутом, но чувствующемся тайно (это тайночувствование Гамлета, то, что мы не знаем прямо чувств и настроений его, а видим их, как за завесой, есть следствие его касания иному миру и его «иного бытия» – безумия) во всей пьесе состоянии той особой скорбной грусти, проистекающей из того, что он все время на краю жизни, у ее грани, которое можно назвать состоянием могильной или, лучше, «порожной» (на пороге) грусти. Череп Йорика особенно живо это чувство выводит наружу: ему почти дурно от грусти.
Бедняга Йорик! Я знал его, Горацио. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь – это само отвращение, и тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз. Где теперь твои каламбуры, твои смешные выходки, твои куплеты? Где заразительное веселье, охватывавшее всех за столом? Ничего в запасе, чтоб позубоскалить над собственной беззубостью? Полное расслабление? Нука, ступай в будуар великосветской женщины и скажи ей, какою она сделается когда-нибудь, несмотря на румяна в дюйм толщиною. Попробуй рассмешить ее этим предсказанием.
После этого новое, особое отношение создается к жизни, к законникам, купчим, всем земным делам, малым и великим, от льстеца придворного и господина, хвалившего лошадь, череп которого теперь бросает могильщик, до Александра Македонского, прах которого пошел, может быть, на замазку стен. Это новое отношение к жизни или, вернее, состояние души – есть восприятие жизни sub specie mortis {114}, есть скорбное отношение {115}. Нельзя, однако, думать так, что как сцена на кладбище, так и монолог «Выть или не быть» стоят особняком в трагедии, вне ее действия, как общие картины настроения Гамлета, не связанные непосредственно с ходом действия трагедии: наоборот, эти сцены получают весь свой смысл, только будучи связаны с действием трагедии. Эта скорбь, и ирония, и безумие, и мистическая жизнь души, и память об отце, связь с ним душевная – все это не только отдельные черты душевной жизни Гамлета, господствующие и возвышающиеся над его образом в трагедии, но теснейшим образом связанные со всем ходом действия пьесы, – его отражения; это вовсе не «общие места» трагедии – ее «философия», ее рассуждения – это непосредственно вытекающие из хода действия трагедии (явления Тени) факты душевной жизни Гамлета, в свою очередь: непосредственно входящие в самый механизм трагедии и непосредственно связанные (и потому дающие особое освещение им, особый смысл) с его поступками. Только в связи с ними становятся понятными эти настроения и связь внутренней жизни Гамлета (жизни души) с его внешней (поступки его, this machine…) роль в трагедии, странная и необычная связь, таящая в себе разгадку тайны всего механизма трагедии.