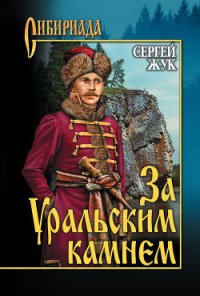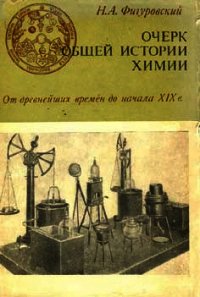Всеобщая история искусств. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. Том 3 - Алпатов Михаил Владимирович

27. Андрей Рублев. Троица
В начале XV века среди московских иконописцев выступил мастер, которого уже современники высоко чтили за то, что все созданное им отмечено печатью особенного вдохновения, — Андрей Рублев (ок. 1350/1360—1430 г.).
Нам ничего не известно ни об его происхождении, ни о ранних годах его жизни. Мы можем лишь в общих чертах представить себе, какие жизненные впечатления определили формирование его дарования. Он слышал об исторической победе русских над татарами, видел ее плоды: всеобщий подъем, пробуждение надежд. Но он не мог не знать и того, что победа давалась нелегко, требовала сплоченности, жертв, самоотверженности. Сам он был простым чернецом, возможно воспитанником Троицкого монастыря, где все дышало памятью о мудром старце Сергии. В окружающей жизни было много тяжелого и даже мрачного. Была вражда князей, было жестокое притеснение простых людей князьями и боярами, была вечная боязнь нашествий, разорений, казней, пыток, пожаров и мора. Но это тяжелое, мрачное, жестокое не находило себе доступа в искусство Рублева. Правда, его искусство нельзя назвать безмятежным. При всей его светлости и приветливости в нем есть нечто трогательно грустное и хрупкое, как выражение средневековой идеи, согласно которой человек создан не для земных радостей, а для того чтобы принести себя в жертву. «Радость святой печали», — эти слова древнего автора выражают одну из сторон искусства Рублева. В произведениях Рублева царят та тишина и то спокойствие, которые наступают вслед за жаркой битвой, та тишина, которая составляет очарование среднерусской природы с ее просторами лугов, стройными березами и ясными летними закатами.
Как живописец Рублев сложился в Москве и начал свою деятельность при дворе великого князя. Судя по первому упоминанию о нем в летописи в связи с иконостасом Благовещенского собора, он был близок к мастерской Феофана Грека. Замечательный мастер должен был произвести на Рублева сильное впечатление своим проникновенным пониманием человека, сильными характеристиками, смелостью живописного языка.
Но увлечение Рублева Феофаном не переходило в подражание и в зависимость. Его не покидало стремление противопоставить образам, на которых лежал отпечаток личности византийского мастера, свое мировоззрение русского художника. В русском искусстве более раннего времени не было столь последовательного проявления двух различных художественных направлений, как в работах Феофана и Рублева. У первого преобладала в лицах величавость, мрачность, суровость, высокомерие, у второго — нежность, гармоническое спокойствие и душевная отзывчивость.
Предшественниками Рублева были те безымянные русские мастера, которые еще в XIV веке создали много превосходных произведений. Возможно, что его учителем был Прохор с Городца или Даниил Черный. Не исключена возможность, что он побывал в Новгороде и знал его художественные сокровища. Несомненно, что во время работ во Владимире он познакомился с его древнейшими фресками и иконами. Рублев знал и такие шедевры искусства, как «Владимирскую богоматерь» (I, 12), и наряду с ней те древние памятники киевской и владимирской иконописи, которые были сосредоточены в Московском Кремле. В русских иконах начала XIV века, вроде «Бориса и Глеба» (16), уже заметны черты того стиля, который достигает своей зрелости в работах Рублева.
Говоря о формировании искусства Рублева, необходимо отметить не одни лишь художественные впечатления молодого мастера. Современники называли Феофана философом, мудрецом; Рублев в равной степени может быть назван художником-мыслителем. В монастырях хранились в то время большие книжные богатства. Известно, что ученик Сергия Радонежского Кирилл захватил с собой на дальний Север и бережно хранил там среди других книг перевод греческой физики Галена. Что касается Рублева, то в формировании его мировоззрения сыграли большую роль позднегреческие писатели. В сочинениях Дионисия Ареопагита он мог найти обоснование того художественного иносказания, которым он постоянно пользовался. «Видения бога сообразны тем, кому он являлся», — писал тот в оправдание человекоподобия образов церковного искусства. Он отмечал при этом символический смысл многих образов: «зрение — как воплощение созерцания, юный возраст — как цветение жизненной силы, ноги — быстрота движения, рука и локоть — сила действия, крыло — быстрое парение вверх». «Проницательный ум, — замечал Дионисий, — не усумнится в том, что видимое употреблено, собственно, для означения невидимого». В предпочтении иносказания и в стремлении выдвигать на первый план в человеке духовное у Рублева сказался типичный образ мыслей средневековых людей, не решавшихся прямо смотреть на реальный мир и воспевать его в искусстве.
Но самое примечательное у Рублева было то, что, даже оставаясь в рамках средневекового мировоззрения, он, как современник подъема русской культуры, сумел преодолеть в своем творчестве мрачный монашеский аскетизм, бесплотность неоплатоников и косность церковной догматики. Рублев шел к признанию земного мира, человеческой красоты и благородства. Сам он ни в чем не нарушал церковных догматов, все искусство его не выходило из-под власти церкви. Но про него с удивлением рассказывали, что в праздничные дни, «когда живописательству не прилежаху», он садился на седалище, «неуклонно зряще» на «всечестные иконы». Иконы, которые в то время были прежде всего предметом суеверного поклонения, ценились Рублевым в качестве художественных произведений, и это было отмечено современниками.
В Москве в конце XIV и в начале XV века создавались рукописи, богато украшенные миниатюрами и заставками. Вместо инициалов с запутанными среди плетенки фантастическими зверями (стр. 133) здесь можно видеть очень живо переданные фигуры зверей и птиц, дельфинов, рыб и змей, составляющих очертания отдельных букв. Даже сказочные крылатые драконы выглядят правдоподобно.
Особенно изящна фигурка голубой цапли, наступившей на змею и пристально в нее всматривающейся. Благодаря плавному ритму контура силуэт птицы сливается с очертаниями змеи (стр. 187).
Среди миниатюр евангелия Хитрово особенно выделяется символ Матфея — фигура ангела с книгой в руках (119). Своим общим силуэтом ангел Хитрово напоминает выполненного за 20–30 лет до того ангела из церкви Федора Стратилата в Новгороде (23). Но в миниатюре все стало мягче, нежнее, тоньше, более певучим. В этой фигуре есть обаятельность юности, грация женственности. Такой земной, человеческой красоты русское искусство не знало до тех пор. Ангелу иконы Архангельского собора (25) еще не хватает гибкости, мягкости, в нем есть еще некоторая скованность.
Ангел Хитрово стремительно идет, ступая по краю обрамления, широкое крыло за его плечом облегчает походку, и потому фигура его как бы парит. В руках он держит книгу, но эта ноша не обременяет его. Он не стоит на месте, но поскольку крылу его соответствует выступающий вперед кончик плаща, это придает всей фигуре равновесие. Фигура ангела вписана в круглое обрамление так, как это умели делать только античные мастера вазописи. Плавные контуры складок одежды воспринимаются как отголоски этого кругового обрамления. Фигура превосходно включена в него, и это сообщает ей легкость; золотой фон усиливает в ней черты силуэтности и придает ей характер символа. Краски — нежные, чистые, воздушные; сиреневый плащ гармонирует с нежноголубым хитоном, с его светлыми бликами, и только киноварь обреза книги вносит в эту гамму нечто звонкое. Миниатюра евангелия Хитрово овеяна тонкой поэзией. Вполне вероятно, что создал ее сам Рублев.
В другой миниатюре этого евангелия предстояло изобразить символ Иоанна — орла (26). Однако у изображенной птицы орлиный разве только изогнутый клюв. В остальном она больше похожа на кроткого сизого голубя. У птицы этой чуть приподняты крылья, в когтях она держит книгу, вся она так вписана в круглое обрамление, что кажется как бы парящей. Нужно сравнить это изображение птицы с теми, которые украшают Дмитриевский собор (10), чтобы оценить, насколько более одухотворенными стали у Рублева образы природы, «твари», по выражению древнерусских людей. Символ Иоанна похож на вещую, говорящую птицу. В рукопись церковного назначения вошел сказочный образ, вроде того Дива, который тревожно кличет в «Слове о полку Игореве».